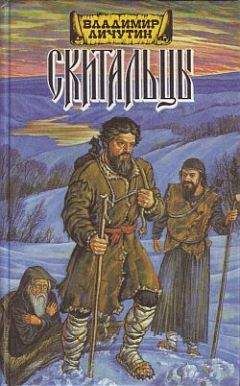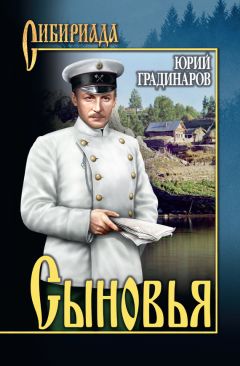– Да черви, матушка, черви. Они так и вьются и плачут.
– Зачем так грустно, Господи?
– Ну дак как же не черви-то, матушка. Уж вы как прекрасны, но всего лишь червь двух аршин и четырех вершков длиною-с.
Женщина при этих словах брезгливо передернула плечами, но промолчала, Клавдий же внутренне восторжествовал, но сразу заторопился, боясь, что перебьют, продолжил елейную речь:
– И я червь белый, подпенный, быват, что хуже вас. Пакость – и только. И как подумал про то – и захотел умереть, начисто штоб истребиться и дух вон. Однажды пошел я в аптеку и купил этого товару. – Клавдя помедлил, заговорщицки подмигнул и оглянулся на дверь. Потом обвел глазами житье, остерегаясь подвоха: да нет, кажется, не ошибся, комната самоубийцы. И только тогда, прислушавшись, добыл из безрукавки стеклянную нюхательницу с притертой пробкой. – Приобрел, значит, и отныне неотлучно держу при себе, момента жду.
Он говорил без умолку, широким рассеянным взглядом обнимая хозяйку, но странным образом улавливая перемены, что творились в ее разбитом сердце.
– И отчего вы не спросите, матушка, что в этой бутылочке? А в ней, скажу по секрету, смерть-с. Самая обыкновенная и весьма скорая. Кинул щепотку хотя бы в это сладенькое винцо, пригубил – и хе-хе. – Клавдя повертел бутылочку в ладони и положил обратно в карман. – Впрочем, у вас душно. Не позволите ли мне снять мой сюртук?
Так он назвал баранью засаленную душегрею и, торопясь, будто откажут в просьбе, снял безрукавку и кинул на спинку кровати поверх бекеши.
– Страшный вы человек, Момон. И жуткие вещи говорите мне. Я боюсь вас, но хочу, чтобы вы не уходили. Скажите, зачем вы крались за мною? – Женщина побледнела еще больше, запрокинулась на подушки, словно с нею случилось худо, потерла виски и будто невзначай потянула за край лилового платья, оголила мраморное плечо. Клавдя запунцовел и потупил взор.
– Иди сюда, – громко позвала женщина, кровать скрипнула, подаваясь под ее телом.
– Не имею нужды-с...
– Вы, Момон, не смеете отказать женщине. Вдруг она любит вас и оттого преследует...
– Вот вы снова изгаляетесь надо мною, а вам к Богу взывать пора, – потухшим горьким голосом посетовал Клавдя и, решившись, вскинул голову. Глаза его зажглись кошачьим желтым светом. Может, виною тому было пламя свечи? – Вот я даве вам сказал, что я червь. Но добавлю к сему: я червь с капиталом. Меня, ежели хотите по правде, всего лишь однажды унизили по моему изволенью, лишили гордости, над чем вы и надсмехаетесь. Но я отныне много капиталу имею и через тот капитал над вами смеюся. Все вы на поклон ко мне, все-е. И гордецы, и сластолюбцы, и служивые – все на поклон. И совестные и бессовестные, кого нуждишка прижала и кто в разврате погряз, забывши о Боге. Всем нужен. Только раз случилося горько и тошно, я переболел, а таперича мне сладко, как бы вроде мед ем и медом же и закусываю. И сейчас сладко, как вы предо мною унижаетесь очень, а я загодя все вижу и могу вами играть. И даже вполне может случиться, что вы в ножки мне падете и целовать их, грязные да неумытые, будете оченно.
– Чего вы хороните меня? Чем так насолила вам, что вам сладко захоронить меня? Прочь! Прочь с глаз! – вскричала женщина и театрально вскинула руку, указывая на дверь. Клавдя торопливо поднялся, но не успел и шагу шагнуть, с намерением одеться, как женщина тут же и смирила тон, попросила угасше: – Впрочем, останьтесь. – Она вдруг придвинулась к стене и, указав на край кровати, пригласила с плохо скрытой мольбою: – Вы не бойтесь. Мне так худо. Присядьте возле, утешьте даму.
– Не имею нужды-с...
– Ну что вы заладили одно и то же.
Она заплакала, закрыла лицо руками, потом привстала, торопливо содрала с себя лиловое платье. У Клавди голова пошла кругом: в едва разбавленных сумерках голая женщина показалась русалкою, облитой тонким прозрачным покровом воды. «Вот он, дьявол-то, маруху исподтишка на меня наслал, чтобы ввергнуть в соблазн, и небось тешится сейчас», – туманно подумалось, и Клавдя, забывшись, против воли своей неожиданно застонал, скорчился, делая вид, что схватило живот. Но он, однако, украдкою скашивал взгляд и не мог оторваться от не истраченного хворями, ладно сбитого тела. Скопцу стало так жаль себя, что он на мгновение закрыл глаза. В голове у него кружилось, ее то сдавливали раскаленными обручами, то обкладывали грудами льда. Бедный человече, и за что наслали на тебя такие муки? «Весь капитал отдам, Господи! – взмолился в душе Клавдя. – Верни меня прежнего, хоть на мгновение верни!» Ему даже почудилось, что в утробе случилась неведомая буря, так окатило поначалу студеною, потом и парною волной. «Все отдам, все-о», – как во сне шептал Клавдя и, расставив пред собою руки, пошатываясь, шагнул к кровати. Он присел на самый край постели и, мучительно желая, чтобы все это лишь приснилось ему, сильно стиснул веки, в полной гнетущей тишине нашарил прохладное женское тело и сразу отдернул ладонь, как будто бы ожегся.
«Грешник-то я какой, Бо-же-е!» – снова тайно вскричал Клавдя и искренне заплакал. Все, чем жил он последние годы, о чем лелеял мечту и чем тешился, вдруг показалось таким жалким, никчемным, не стоящим и ломаного гроша, что Клавдя люто возненавидел недавнего себя. На что потратился, на что обменял огонь телесный? Все золото мира, все сокровища не смогут заменить крохотного кусочка жалкой и презренной плоти. Так какова же цена его? Костистая его ладонь уже торопливо сгорстала тугую скрипучую грудь, и скопец поразился ее упругости и неведомой прежде сладости. Она была похожа на молодое коровье вымя, к которому в давнем детстве любил подползать Клавдя и жадно высасывать его. Она походила на кобылью ляжку, и Клавдя, вдруг подумав так, дал обет нынче же завести лошадей. Возможно ли такое, чтобы женская грудь переменила человека? Клавдя чуял себя прежним, он стал прежним, значит, Господь услышал его молитву. И снова огонь прожег Клавдю, просквозил от виска до пят, и поясница затомилась. С туманной головою, точно деревянный, негнущийся, Клавдя медленно повалился на постелю, и рука его, прежде сухая, шершавая, вдруг налилась потной влагою. В груди его вздрогнуло. «Все мара, кудесы, обман: жабу обнимаю, жабу...» Голова у Клавди мгновенно протрезвела, и лисий ум снова овладел скопцом. Но, подавляя брезгливость и тошноту, скопец упорно, терпеливо гладил потное вздрагивающее женское тело, уже ненавидя его.
– Кто ты? – спросил скопец, перемогая отвращение.
– Твоя смерть, – ответила женщина и засмеялась.
Мурашки пробежали по спине скопца.
– Ну и ладно, – спокойно отозвался он, но рука его споткнулась на укромном женском месте. – Когда-то помирать надо.
– Шучу... Я мужа убила.
– Не лги.
– Может, и вру. Но одно верно, что безнадежно больна и смерти хочу. Разве смерть не может искать смерти?
Тело женщины, наверное от холода, покрылось пупырками, и скопец отдернул руку. Вялость овладела им, не хотелось подыматься, но Клавдя был настороже, ловил каждый неожиданный звук в комнате.
– Ты спишь? – вдруг, наклонившись к самому уху, выдохнула женщина.
Клавдя не ответил, лишь ровнее заиграл горлом и всхрапнул. Этот горловой перелив случился так естественно, что Клавдя поверил своему храпу и подумал, что, наверное, вздремнул.
– Момон, ты спишь? – снова спросила женщина и украдчиво, стараясь не потревожить скопца, перелезла через него. Нагая грудь щекотно скользнула по лицу. Скопец поежился, раздраженно подумал: «Не тяни время, кобылка, некогда мне с тобой возиться» – и едва расщурил глаза.
Смутно белея гибким, присадистым телом, женщина крадучись подошла на цыпочках к поддевке, ловко вытянула бутылочку с отравой, налила в чашку вина, не жалеючи всыпала содержимое и, всхлипывая, захлебываясь и рыдая, выпила жадными глотками. Чашка выпала из рук и, звонко отскочив от пола, хрустнула. Скопец испугался вдруг неведомо чего, ему стало страшно, и он порывисто сел, худо соображая горячей головой. Все было как во сне и походило на игру. Женщина тупо, как слепая, уже не видя и не понимая скопца, заползла на постелю, легла на спину, стыдливо потянула на себя одеяло. Боже мой, какая же в ней была тяга к смерти, если с такой неотвратимостью шла женщина к своему гибельному концу.
Клавдя, полуобернувшись и хрустя пальцами, любопытно всматривался в умирающую с неведомым ранее сладострастием, и липкий холодок ужаса и радости плыл по спине. Может, иного конца ждала, иного исхода желала незнакомка, когда выслеживала скопца и выпытывала его натуру? Отчего именно Момона выбрала она для своей последней игры? Чем таким поглянулся он и запал в душу, ежели из трех тысяч московских скопцов выглядела этого, тщедушного и жалкого, с широко расставленными камбальими глазами. Может, именно хилостью тела и привлек он, ибо более всего боялась женщина уйти из жизни растерзанной и безобразною, искровяненной, оплывшей в собственной руде и печенках. Она и после смерти желала остаться красивою, чтобы самые первые, оказавшиеся чудом возле ее кровати, не поразились ужасности и безобразию, что обычно преследует человека. Но этот, еще молодой меняла, немало поскитавшийся в притонах и подвалах ночлежек, он, поди, научился чему-то особенному и знает тихую смерть, похожую на сон. Но вот поторопилась она, невыносимо стало более ждать, заспешила уйти, вроде бы разуверилась в Момоне.