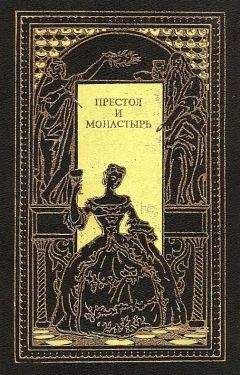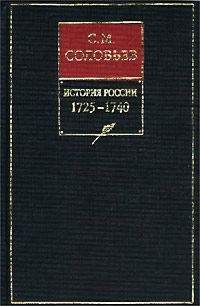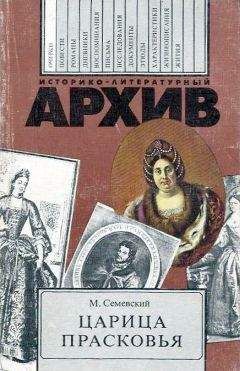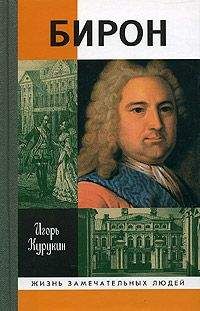— Поискать… может быть, и найдутся.
Поняла ли Анна Ивановна мысль своего фаворита — неизвестно, но всю остальную дорогу она молчала и казалась расстроенною.
Новые честолюбивые идеи зародились в это утро в двух головах. Идея немца — стать твёрдой ногою у русского престола, занятого то обольстительной фигурой цесаревны, то скромным обликом принцессы, и идея русского — устранить немца от православной Руси.
Изо всех деревянных строений обоих берегов Мойки дом Артемия Петровича Волынского, в котором он постоянно жил сам, отличался величиною размеров, приятною архитектурою и затейливой окраскою. Не менее выдавался изящный вкус хозяина и в отделке внутренних комнат, в особенности парадных, занимавших собою весь лицевой фасад. Стены всех этих обширных зал, гостиных и диванных были обиты красным атласом, с травами и шёлковыми персидскими канавашами, из фона которых эффективно выходили, в золотых рамах, картины масляными красками, изображавшие различные ландшафты и аллегорические сюжеты, а по простенкам огромные зеркала, тоже в золотых рамах. Расставленная кругом стен ореховая мебель с золочёными спинками и триковою обойкою не щеголяла, как у других русских вельмож, грязною неряшливостью. В главной гостиной, над канапе, на почётном месте висели три портрета: Петра Великого в середине, Анны Ивановны и Бирона по бокам. Не так роскошны внутренние, так называемые жилые комнаты, в которых вместо атласа — цветная камка и шёлковые шпалеры, вместо золотых рам зеркал — ореховые и вместо триковых — кожаные подушки, но везде чистота и опрятность. В прямую противоположность немцу Андрею Ивановичу Остерману, злейшему врагу чистоплотности, коренной русский Артемий Петрович тщеславился чистотой, и его многочисленной, состоявшей из шестидесяти человек дворне всё-таки была работа. Домашняя челядь дома Волынского была различных национальностей: шведской, польской, калмыцкой, бухарской и даже индийской; ливрейные лакеи были одеты в песочного цвета кафтаны и красные камзолы. Артемий Петрович работал в своём кабинете, напоминавшем собою, по солидной библиотеке и астрономическим инструментам, кабинет учёного.
— Кубанец!
Вошёл человек средних лет, с тою свободою, какую видим у прислуги, пользующейся особою доверенностью и расположением господ.
— Кубанец! прибудут мои знакомцы, близкие… понимаешь кто? зови сюда, а если другие кто, то говори: занят-де государственными делами и принять никак не могут, — приказал кабинет-министр Артемий Петрович, сидевший у своего письменного стола, заваленного бумагами и разбросанными книгами.
Артемий Петрович снова принялся за работу. Бойко скользило перо по синеватой бумаге в уверенной руке знаменитого начётчика и оратора того времени. По временам он останавливался, прочитывал с самодовольною улыбкою громко и несколько нараспев последние фразы и нова принимался за перо. Заметно было, что работа была из таких, в которых содержание выливается прямо из сердца автора.
Скоро в прихожей послышался шум и затем в кабинет вошли двое гостей. Первый из вошедших — мужчина уже пожилых лет, грузный, с ожиревшим телом, с опухшим лицом, на котором, в массе самодовольствия и тупости, только глубокий знаток человеческого сердца мог подметить немалую дозу лукавства, князь Алексей Михайлович Черкасский, кабинет-министр, товарищ Волынского и Остермана. Когда после смерти Ягужинского кабинет остался только при двух членах, то придворные остряки говорили, что «ныне-де в кабинете полная консилия души (Остермана) с телом (Черкасским)». Второй гость составлял совершенную противоположность: это был сухопарый, вертлявый француз, с длинным носом, с умными живыми глазами, смышлённо выглядывающими через очки — де ла Суда, секретарь иностранной коллегии, развитый далеко выше уровня русского образования того времени, аккуратный поставщик переводов замечательных трудов иностранных литератур для Артемия Петровича, не знавшего иностранных языков. И теперь под мышкою он держал переведённую им главу из знаменитого политического трактата «Il principe» Маккиавели.
— Добро пожаловать, сиятельный коллега, — приветствовал товарища хозяин, любивший щегольнуть иностранным словцом, любезно пожимая руку князя. — Рад видеть, — продолжал он, обращаясь к секретарю с оттенком некоторой покровительственной короткости, принимая от того свёрток. — Весьма рад!
Гости уселись: князь спокойно на диван, де ла Суда на стул у письменного стола.
Вскоре прибыли новые гости: председатель коммерц-коллегии граф Платон Иванович Мусин-Пушкин, суровый старик с наружностью дикобраза, с резким словом, но с глубоко любящим сердцем ко всем, кто имел возможность подойти к нему ближе; обер-штер-кригс-комиссар Фёдор Андреевич Соймонов, скромный и застенчивый, сохранивший почти до старости лет привычку краснеть и смущаться от каждого женского взгляда; советник Андрей Фёдорович Хрущов, делец и человек образованный, но непримиримый ненавистник всего немецкого, и, наконец, благодушный, симпатичный архитектор Пётр Михайлович Еропкин.
Беседа, начавшаяся вяло, с погоды, как и в нынешнее время, скоро оживилась и непринуждённо полилась о всех занимавших тогда мелких, но весьма влиятельных придворных акциденциях и конъюнктурах. Всех занимали одни и те же вопросы: как и к кому оказывала благоволение императрица, в каком расположении духа был в такое-то время его великогерцогская светлость и что бы такое могли означать тёмные и странные слова оракула Остермана. По мере оживления разговор принимал характер острого неудовольствия.
— Какое наше житьё — собачье! Всего боишься… — говорил по обыкновению с воодушевлением хозяин. — Не так живут польские сенаторы — ни на что не смотрят и всё им даром! Да что сенаторы!.. Там и простому шляхтичу сам король не смеет ничего сделать!
— Что за житьё! — жалобно вторил князь Алексей Михайлович. — Как ни служи, а награды не жди… Я ли не служил государыне, не по моему ли усердию она и на престол-то взошла, а что получил? Говорила тогда: «Не оставлю тебя, пока жива буду», чем не оставила! Как-то пожаловала нам трём: Головкину, Остерману да мне — китайские товары поровну, а потом, после смерти Головкина, его часть обещала разделить между нами двоими, а вышло, что только посулила. Из головкинской части выбрала себе тысяч на тридцать рублей… Да что товары! недоимку с моих крестьян не простила. А всё немцы…
— Немцы… — с горечью заговорил Волынский, которого одно упоминание о немцах приводило в злобу. — Да мы, русские, кто? рабы их. Где наши лучшие родовитые фамилии? Голицыны?.. Волконские? или понаделаны шутами, или…
— Нечего нам жаловаться, коли сами виноваты, — перебил Волынского молчавший до сих пор Мусин-Пушкин. — Сами себя делаем шутами да едим друг друга. Кто выдал Голицыных?.. сами. Кто теперь губит Долгоруких?.. Не ты ли, Артемий Петрович, направляешь дело…
— Не я, а Остерман, да и Долгоруковы совсем иное дело. Всем известно, как они поступали, когда были в фаворе… — несколько смутившись, спешил оправдаться Артемий Петрович. — Долгоруковы и ныне крамольничают: задумали государственный переворот совершить, иноземное войско призвать в отечество, женить цесаревну Елизавету с Нарышкиным и возвести её на престол…
— Враки одни, придумали с ветра: надо ведь Долгоруковых стереть, а на их место, самим… — проворчал Мусин-Пушкин.
Намёк, сказанный резко и очевидно указывающий на личную неприязнь Волынского к Долгоруковым, вызвал бы серьёзную ссору, если бы не вмешался находчивый француз. Заметив раздражение хозяина и опасаясь с его стороны горячей вспышки, де ла Суда поторопился смягчить резкие упрёки графа.
— Долгоруковы горды и завистливы, сделали много зла, это известно, а насколько правды в речах о заговоре, мы не знаем и со стороны судить трудно. Разбирает их дело комиссия, в которой достойнейший Артемий Петрович, несомненно, окажет наивысшую справедливость и беспристрастие.
Волынский несколько успокоился и уже отвечал более спокойным тоном:
— Всенепременно постараюсь, да сделать тут ничего не могу. Допросами руководит сам Ушаков, он же ходит с докладами к государыне и к герцогу. Вся сила в Остермане.
Артемий Петрович говорил неискренно. Ни императрице, ни Бирону окончательная гибель фамилии Долгоруковых не казалась необходимою. Попытка верховников, Голицыных и Долгоруковых, ограничить самодержавие и запрещение приезда Бирона давно уже успели стереться из памяти, точно так же забылась и история о подложном составлении завещания Петра II[14]. Не мог особенно бояться фамилии Долгоруковых и оракул Остерман, сильно укрепившийся своею опытностью в благосклонном внимании императрицы. Совсем другое положение Волынского, правда, умного и даровитого человека, но всё же новичка, не пустившего ещё глубоких корней в придворной почве. Для него могло быть опасным появление фамилий опальных князей, стоявших высоко в общественном положении и не благоволивших к нему, как к выскочке. Его не могло не встревожить назначение Сергея Григорьевича Долгорукова, одного из главных виновников подложной духовной, на пост посланника в Берлин, ясно указывавшее на близость окончания опалы.