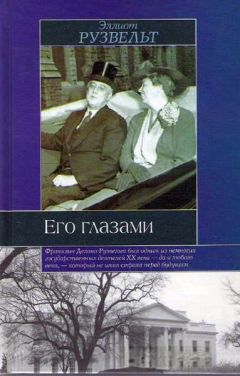Президент умолк. Потом тихо проговорил:
— Главные мысли я высказал. Постарайся их развить.
— И это все? — спросил Хассетт, записавший то, что говорил Рузвельт.
— А разве этого мало? — с неожиданной горячностью воскликнул президент. — Для того, чтобы это осуществить, потребуются усилия целого поколения и, может быть, даже не одного. — И добавил уже спокойнее: — Конечно, если человечеством не будут руководить люди вроде Черчилля, который признает только один вид движения — назад...
— Вы полагаете, что он потерпит поражение на летних выборах?
— Я этого не исключаю, — тихо сказал Рузвельт.
— Вы думаете, англичане забудут, кто привел их к победе?
— Нет, конечно, не забудут. Однако победа, как это ни парадоксально, может стать его политической смертью. Для войны он был хорош, но иметь в качестве премьера человека, который не шагает в ногу с Историей, слишком большая роскошь! А англичане — народ расчетливый.
— Разумеется, мысли, подобные этим, — Хассетт слегка помахал листком бумаги, который уже приготовился положить в папку, — вряд ли вдохновят Черчилля. Кстати, вы уверены, что они вдохновят Сталина?
— Я убежден, что он разделит мою точку зрения, если никто не будет угрожать его стране.
— Интересно, слышал ли кто-нибудь нечто подобное от него самого? — почти не скрывая легкой иронии, сказал Хассетт.
— Я слышал, — коротко ответил Рузвельт, — я!
Хассетт ушел.
«Теперь поговорим с мистером Сталиным», — мысленно произнес президент и открыл ящик письменного стола, тот, в котором хранились документы первостепенной важности.
Вот они, эти письма, в переводе на английский, проклятые листки плотной, белой, слегка шершавой бумаги, с едва различимым сероватым отливом, — письма, которые принесли ему столько терзаний.
Он начал перечитывать их, хотя, наверное, уже помнил каждую фразу наизусть. Но сейчас цеплялся за надежду, что, быть может, читая эти письма в первый, второй и третий раз, он придал не тот смысл словам Сталина, переоценил их резкость и скрытую в формально вежливых выражениях враждебность... А когда перечитает снова, вот теперь... Казалось, Рузвельт подсознательно верил, что за прошедшие дни те или иные слова Сталина каким-то чудом изменились, приобрели другой смысл, утратили резкость...
Сначала он стал перечитывать письмо о «бернском инциденте». Он читал не все подряд, а лишь те строки, которые особенно сильно ранили его, те, которые нельзя было оставить без четкого и убедительного ответа. Вот они, эти обидные, даже оскорбительные, если перевести их с дипломатического языка на общежитейский, слова — все, как было. Слегка завуалированное упоминание о различиях во взглядах на такие понятия, как честность и союзнический долг: речь идет о том, «что может позволить себе союзник в отношении другого союзника и чего он не должен позволить себе». Далее почти прямое обвинение: немцы продолжают сражаться во многом потому, что рассчитывают на сепаратный мир с Западом, что естественно после бернских переговоров. «Трудно согласиться с тем, — писал Сталин, — что отсутствие сопротивления со стороны немцев на западном фронте объясняется только лишь тем, что они оказались разбитыми. У немцев имеется на восточном фронте 147 дивизий. Они могли бы без ущерба для своего дела снять с восточного фронта 15—20 дивизий и перебросить их на помощь своим войскам на западном фронте. Однако немцы этого не сделали и не делают. Они продолжают с остервенением драться с русскими за какую-то малоизвестную станцию Земляницу в Чехословакии, которая им столько же нужна, как мертвому припарки (подчеркнуто английским переводчиком и указано: „идиоматическое русское выражение, означающее никчемность, бесполезность“), но без всякого сопротивления сдают такие важные города в центре Германии, как Оснабрюк, Мангейм, Кассель. Согласитесь, — с плохо скрытым ехидством писал Сталин, — что такое поведение немцев является более чем странным и непонятным». Так. Последняя строчка — опять как удар хлыста.
И тем не менее, подумал Рузвельт, перечитав первый документ, письмо написано языком джентльмена. А ведь по существу оно равнозначно пощечине. В сущности, Сталин говорит союзнику: «Ты предатель!»
В другом письме констатировалось, что «дела с польским вопросом действительно зашли в тупик», и в этом прямо обвинялись послы США и Англии.
Словом, за прошедшие дни в письмах Сталина, конечно же, ничего не изменилось, и если уж строить мистические предположения, то, может быть, «отстоявшись», эти письма, подобно вину, стали еще более «крепкими».
В пятый, в седьмой, в десятый раз брал Рузвельт листок чистой бумаги и ручку, но затем его перо бессильно повисало в воздухе. Он не знал, что писать. Отрицать факт бернских переговоров — значит оказаться в положении мальчишки, не признающего свою вину, хотя мать застала его с измазанным лицом у разбитой банки с вареньем. Какие там опровержения!.. Сталину было известно все, до мельчайших деталей.
Отрицать наличие «тупика» в польском вопросе? Но президент не хуже, чем Сталин, знал, что Черчилль создал этот тупик вопреки решениям Ялтинской конференции.
Честно признаться во всем и попросить извинения, пусть в самой завуалированной форме? Но это рано или поздно станет известно всему миру, и тогда... Рузвельт на мгновение представил себе, каким обвинениям и оскорблениям он подвергнется. Да и как воспримет Сталин самоуничижительные признания американского президента? Будет ли и впредь считать его союзником, на которого можно положиться? Или надежды на прочный послевоенный мир рухнут, а вместе с ними все мечты Рузвельта, в том числе и самая для него дорогая — о создании Организации Объединенных Наций?
Умеет ли Сталин прощать? Не захочет ли отомстить? Как? Возможностей у него теперь много! Он может занять более категоричную позицию в вопросе о социальном строе стран Восточной Европы, где находятся сейчас советские войска. Может не согласиться на включение в новое польское правительство представителей лондонской эмиграции.
Денонсация договора России с Японией? О, как она обрадовала Рузвельта! Сталин — верный союзник, — он держит слово. Но... о денонсации было объявлено пятого апреля, а эти письма Сталин отправил седьмого. Так, может быть, денонсация — не более чем жест? Погрозили пальцем Японии, и дело с концом. Сталин может — и это было бы сильнейшим ударом по Америке — взять обратно свое обещание вступить в войну с Японией. Он может сослаться хотя бы на то, что после всесторонних обсуждений с военными пришел к выводу, что выдержать две войны — одну сразу же за другой — Россия не в состоянии. Да еще добавит при этом, что людские и материальные ресурсы его страны были бы менее истощены, если бы западные союзники выполнили свое обещание и открыли второй фронт своевременно. Может быть, за эти два дня — между денонсацией советско-японского договора и отправкой писем — произошло какое-то событие, окончательно подорвавшее американо-советские отношения? Но что именно? Может быть, Сталину за эти дни стали известны какие-нибудь новые подробности о характере бернских переговоров? Или, может быть, при поддержке Черчилля «лондонские поляки» предприняли очередную антисоветскую акцию? Но какую?..
Так или иначе, под угрозу поставлены все послевоенные проекты Рузвельта и в первую очередь создание Организации Объединенных Наций. В самом деле, как Советский Союз может быть уверенным, что в этой Организации будет соблюдаться принцип равноправия?..
После Тегерана и Ялты президент считал, что у него со Сталиным установились вполне лояльные, даже дружеские отношения. В своей первой «Беседе у камина» по возвращении в Вашингтон из Тегерана президент сказал:
— Мы хорошо поладили с маршалом Сталиным...
«Вот и поладили!» — с горечью повторил сейчас про себя Рузвельт.
Он пустыми глазами смотрел на лист бумаги, на котором не было написано ничего, кроме слов: «Лично и секретно премьеру И. В. Сталину от президента Ф. Д. Рузвельта». Потом наконец оторвал от него взгляд и рассеянно оглядел письменный стол. И заметил маленький бумажный прямоугольник. Это была та самая египетская марка, которую принес ему Рилли.
И тут Рузвельт вспомнил... Вспомнил, как по пути в Тегеран сделал посадку в Каире. Он пробыл там с двадцать второго по двадцать шестое ноября, совещаясь с Черчиллем и Чан Кайши. И во что бы то ни стало хотел осмотреть знаменитые египетские пирамиды.
Безоблачное небо, яркое солнце и нескончаемые пески... Вопреки ожиданиям пирамиды не произвели на Рузвельта особого впечатления, но огромный сфинкс заворожил его.
Разумеется, он много раз видел изображения сфинкса на фотографиях, но всегда воспринимал его как безжизненную каменную глыбу с примитивными очертаниями получеловека, полузверя... В реальности все оказалось иным. Сфинкс осмысленно глядел прямо в глаза президента и как бы вопрошал: «На что ты надеешься?»