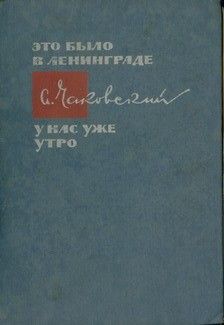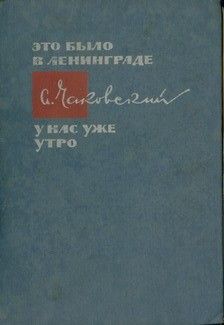— Какие печки-то? — спросил Никанор Семёнович, но в эту минуту кто-то позвал Ирину из цеха, и она вышла, сказав:
— Ну, вы тут договоритесь.
— Что за печки такие? — повторил Никанор Семёнович, обращаясь уже ко мне.
— Да самые обыкновенные, ну, «буржуйки», — поспешно ответила я. — Хоть три или даже две на первое время. Через три дня начнут приводить детей, а в комнате иней на полу.
Никанор Семёнович глубокомысленно сдвинул свою шапку ещё дальше на затылок.
— Придумайте что-нибудь, Никанор Семёнович, — попросила я, хоть за минуту до этого не знала, как мне звать этого мальчика, на «ты» или на «вы».
— Железо-то найдётся… Сейчас обсудим, — деловито сказал Никанор Семёнович и вышел из конторки.
Он вернулся в сопровождении трёх подростков, сел на стул и проговорил:
— Ну вот, ей печки нужны. Сколотите, что ли, комсомолия! А то там у неё ребята замёрзнут.
Несмотря на то что решался очень важный для меня вопрос, я не могла удержаться от улыбки. Мальчик говорил с ребятами тоном старшего, опытного мастера.
Они сосредоточенно молчали.
— Вы помогите мне, ребята, — попросила я. — Через три дня привезут детей, а холод у нас лютый.
Нет, я была никудышным агитатором. Но мне как-то странно было уговаривать детей сочувственно отнестись к детям. Со взрослыми мне было бы легче говорить об этом.
— Там железо-то есть, — продолжал Никанор Семёнович после длительной паузы и ни к кому специально не обращаясь. — После смены постучали бы часок, а то и впрямь ребята замёрзнут.
Тогда один из ребят, в высоких, явно с отцовской ноги, валенках, сказал:
— Ладно, собьём!
Потом все, кроме Никанора Семёновича, гурьбой вышли.
— Сделают, — подмигнул мне Никанор Семёнович. — Я им, понимаешь, приказать не мог, тут на сознательность надо действовать.
Вошла Ирина. Но я уже собиралась уходить. После того как дело было сделано, мне не хотелось терять ни минуты. Мы договорились, что завтра я приду с санками и увезу печки.
Когда я вышла на улицу, уже смеркалось.
Я долго шла, прежде чем услышала за спиной знакомый звук: звяк, звяк…
Это быстро приближались машины. Когда расстояние между нами стало совсем небольшим, я резко подняла руку. Машина остановилась, почти коснувшись меня радиатором, и шофёр, высунувшись в разбитое окно кабины, стал отчаянно ругаться.
— Спокойно, спокойно, земляк, — говорила я, подходя к кабине.
Но на шофёра это не произвело ни малейшего впечатления.
— Машина гружёная! — орал он. — Куда я тебя, чёртову куклу, посажу, на колесо, что ли? Регулировщик выискался! Стукнуло бы радиатором, знала бы, как машины останавливать!
Я нисколько не обиделась на эту ругань, потому что все шофёры одинаковы и все они вначале ругаются, когда останавливаешь машину. Я спокойно выслушала его, а потом так же спокойно спросила:
— Ну, теперь можно залезать?
Шофёр внимательно посмотрел на меня и неожиданно сказал:
— Ну, шут с тобой, лезь, раз такая отчаянная.
Быстро взобралась наверх и крикнула оттуда:
— Поехали!
Машина тронулась, я ухватилась за верёвки, которыми был перевязан груз, потому что каждую минуту рисковала скатиться вниз. Главное, скорее добраться! Тут я вспомнила, что даже не спросила шофёра, куда он едет. Может быть, машина идёт совсем не туда, куда мне нужно. Но теперь спрашивать было уже поздно. Я стала внимательно следить за улицами, по которым мы ехала. Мне явно везло, пока что мы приближались к моему дому, проехали через мост. Когда-то мы с Сашей ночью пошли гулять, перешли через этот мост, а когда вернулись обратно, оказалось, что мост разведён до утра. Так мы тогда и прогуляли всю ночь… Как раз в этот момент, когда я подумала: «Как хорошо получилось всё, как мне повезло», — машина вдруг свернула и поехала в совершенно другом направлении. Я закричала:
— Стой, стой! — Но шофёр делал вид, что не слышит. Наконец он затормозил. Я с трудом разжала закоченевшие пальцы и кое-как спустилась вниз.
— Ну как, регулировщик? Нос не отмёрз? — крикнул шофёр, высовываясь из кабины.
— Смотри, чтобы у самого не отмёрз! — прокричала я в ответ и зашагала в свою сторону.
Как я замёрзла! У меня даже не было сил, чтобы снять рукавицы и посмотреть, не отморозила ли я пальцы. И ступни мои совершенно не сгибались, я шла, волоча ноги, будто на лыжах.
Наконец я увидела свой дом. Кое-как добралась до ворот, но, перед тем как войти под арку, не удержалась и заглянула в подъезд школы.
Очевидно, я ошиблась подъездом: посредине заваленной снегом лестницы наверх вела узкая расчищенная дорожка. Я ещё раз оглядела дом с улицы и даже заглянула на номер. Нет, всё было правильно, тот самый дом. Откуда же взялась эта дорожка? На минуту я даже перестала чувствовать холод. Неужели райздрав прислал людей и они расчистили лестницу? Я решительно шагнула в подъезд и стала подниматься наверх.
Когда я добралась до второго этажа, мне показалось, что я слышу голоса. Они раздавались оттуда, из комнат. Я быстро вошла в дверь и увидела… Я готова была заплакать от радости, когда увидела то, что происходило в последней комнате. Анна Васильевна мыла пол, Сиверский, стоя на подоконнике, завешивал окно одеялом, остальные окна были уже прикрыты подушками и каким-то тряпьём. Две незнакомые мне девушки стелили бельё на расставленные вдоль стен кровати.
Я чувствовала, что если раскрою рот, если скажу хоть одно слово, то обязательно разревусь. Я стояла за порогом, смотрела на всё происходящее и старалась успокоиться. Я не могла понять, что произошло, какая сила заставила этих людей делать то, что они сейчас делали. И я не знала, как сейчас себя вести: начать ли обнимать их и целовать или, наоборот, сделать вид, что всё идёт так, как я и ожидала.
Анна Васильевна мыла пол, подолгу задерживаясь на одном месте. Слышно было её тяжёлое дыхание. Я поняла, что она боролась с оцепенением, которое охватывало её каждый раз, когда ей приходилось нагибаться. Но больше всего меня удивило то, что от воды, которой Анна Васильевна мыла пол, шёл пар: вода, очевидно, была горячей, а это казалось уже совсем невероятным.
Я видела, как неуверенно Сиверский, стоя на подоконнике, вбивает гвоздь. Это были робкие, слабые удары.
В комнате из-за завешенных окон стоял полумрак, и поэтому меня не было видно. Моё волнение не проходило. Я всё ещё не решалась войти. Я думала: «Как бы мне отблагодарить этих людей?»
— Ну какие же вы молодцы, товарищи! — воскликнула я, входя наконец в комнату. — С печками у меня тоже всё в порядке! Завтра привезём.
Я сказала это так, точно никогда не сомневалась, что застану всех именно здесь, и за работой. Анна Васильевна выпрямилась.
— А мы тут кое-что сообразили. Грязи-то было, мать моя! Спасибо, девушки подсобили.
Я посмотрела на девушек, которые стелили постели. Они обе были молодые, хотя я не взялась бы определить, сколько им лет.
Одну из девушек звали Катя, другую — Валя. Обе жили в этом же доме.
На двух табуретках лежали кучки неизвестно откуда появившегося белья. Девушки раскладывали его по постелям. Одна из них сказала:
— Придётся ребятам по двое в постелях спать, а то белья не хватит.
Я ответила, что на первое время можно и по двое, и у нас завязался деловой разговор о том, как мы будем принимать ребят. А Сиверский всё стоял на подоконнике с молотком в руке, хотя окно уже было забито. Чисто выбритый, он совсем не походил на тот полутруп, который я застала вчера в постели.
Я посмотрела на него так, как будто не было ничего более естественного, чем видеть его на подоконнике, и спросила:
— А продувать не будет?
— Конечно, будет, — ответил он, — не фанера!
В комнате стало совсем темно, и работы пришлось прекратить.
— Ночевать у меня будешь, начальница? — спросила Анна Васильевна.
Я ответила утвердительно. Затем мы все вышли из комнаты, и я, проходя через правую, захламлённую анфиладу комнат, поняла, как много удалось сегодня сделать.
Мы гуськом спустились по расчищенной снеговой дорожке. Перед тем как разойтись по квартирам, я сказала, что завтра мы соберёмся часов в восемь утра, пойдём за печками, а потом я зайду в райздрав, оформлю всех новых работников детдома и получу на них карточки. Мы простились, и я пошла за Анной Васильевной.
В своей комнате Анна Васильевна зажгла коптилку — кусочек марли, плавающий в маслянистой жидкости. Эти коптилки придавали всем комнатам одинаковый вид.
Мы сели на кровать, и я только сейчас почувствовала, что смертельно устала.
Анна Васильевна сидела выпрямившись, положив руки на колени, и пристально наблюдала за огоньком коптилки.
Вот так мы и сидели некоторое время молча, потом я подумала, что ведь, в сущности, ничего не знаю об этой женщине, которая сидит вот тут на постели, рядом со мной. Но я чувствовала к ней удивительную симпатию. Я посмотрела на неё украдкой: лицо её казалось продолговатым, — может быть, от света коптилки, и не слишком худым. Отпечаток спокойствия и просветлённости лежал на нём.