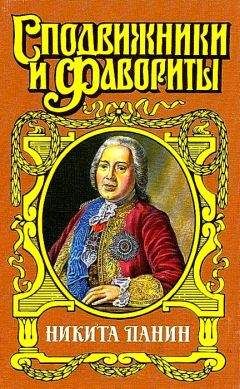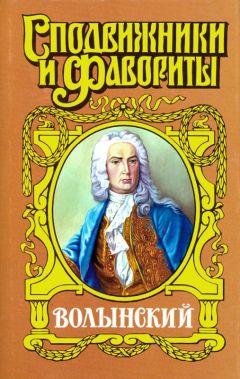Лесток, приняв Бергера, состряпал такой камуфлет, что в нем оказались замешаны австрийский посланник и вообще настолько высокая политика, о которой и не подозревал Бергер, делая свой донос.
Лопухина очень дружила с женой Михаила Бестужева, брата самого вице-канцлера Бестужева, и до Бестужева тут было рукой подать.
Но надо было найти ещё более веские обвинения и доказательства заговора. Дело шло уже о государственном перевороте…
Иван, сын Лопухиной, при дворе Анны Леопольдовны служил камер-юнкером в чине полковника. После переворота 1741 года он был уволен от двора, оказался не у дел и постоянно торчал в трактирах. Напившись, он перед каждым изливал свою обиду и всячески поносил Елизавету.
Лесток поручил Бергеру найти сына Лопухиной и заставить его разговориться.
Это было совсем нетрудно. И уже на другое утро Бергер донес Лестоку все слова Ивана Лопухина:
— Я ко двору не хожу… Отец мой писал к матери моей, чтоб я никакой милости у государыни не искал. Нынешняя государыня любит простой народ, потому что сама просто живет, а больше все ее не любят. Государыня ездит в Царское Село и напивается, любит английское пиво и для того берет с собой непотребных людей… Ей с тремястами лейб-компании что сделать? Императору Иоанну будет король прусский помогать, а наши, надеюсь, за ружье не примутся…
Бергер аккуратно записал все, что говорил пьяный Иван. Он стал расспрашивать Ивана, провоцируя его и выпытывая подробности. И в конце концов Иван договорился до того, что будто маркиз Ботта перед отъездом из России уверял родителей Лопухина, что сам прусский король Фридрих готов поддержать новый дворцовый переворот в России. Кандидатом в цари виделся ему, будто бы, томящийся в Шлиссельбурге малолетний император Иоанн.
Теперь Ботта уехал австрийским послом в Берлин и, вероятно, примет меры, чтобы власть в России изменилась…
Вот так из пьяной болтовни полковника Ивана Лопухина составился заговор против Елизаветы в пользу императора Иоанна…
Ботта был опытным и почтенным человеком. Несмотря на то, что пребывал послом при Анне Леопольдовне, он сумел сохранить свой пост в России и при Елизавете и вызывал у нее глубокое уважение.
Мария-Терезия отозвала его, потому что отношения между Пруссией и Россией становились все дружественнее, и он уехал в Берлин. Вероятно, Ботта в личных беседах с русскими сановниками иногда и высказывал свои мысли о Елизавете и шансах ее царствования, вероятно, даже сожалел о свержении Иоанна, но в том и дело было, что дальше разговоров или сожалений дело не шло. А пересуды есть пересуды…
Для дела о заговоре этого Лестоку было довольно. Он сообщил обо всем Елизавете, и Лопухина, ее сын, Бестужева и еще некоторые незначительные лица были схвачены тайной канцелярией. Донос Бергера попал в руки Александра Ивановича Шувалова, а этот пыточных дел мастер не уклонялся от службы…
Кнут, горячие уголья, дыба — все пытки применялись. Однако, кроме разговоров, ничего конкретного узнать не удалось. Не было и тени активных действий. И Лопухина, и Бестужева, и Иван Лопухин, и его отец Степан повторяли только все те же слова маркиза Ботта, и ничего конкретного за ними не стояло.
Но и этого стало достаточно. Елизавета ненавидела Лопухину, и это решило все. Единственное имя вызывало в Елизавете страх — император Иоанн. Хоть она и держала его в Шлиссельбургской крепости, хоть и не видел он людей и содержался, как дикий зверь, одно его имя наводило на нее ужас. Она не могла спать в одной и той же спальне дважды, переходила с места на место, терзаемая страхами.
Но тут к этому делу примешалась и еще одна сладкая месть — Елизавета не любила австро-венгерскую императрицу и королеву Марию-Терезию за ее добродетель, царственность рода, высокое положение среди европейских монархов.
Как приятно было запачкать имя Марии-Терезии в заговоре против Елизаветы!
И судьба Лопухиной решилась.
Особый суд в составе сенаторов и трех священников приговорил большинство подсудимых к колесованию, четвертованию и обезглавливанию.
Но Елизавета всегда играла роль кроткой и милосердной государыни. Она даровала жизнь всем приговоренным. Им только вырвали языки, высекли кнутом и отправили в Сибирь на вечную каторгу…
Хотя прошло уже немало лет, но все придворные рассказывали по углам и шепотом, как происходило вырывание языков.
Девочки слушали все эти перешептывания с округлившимися от ужаса глазами, постигая трудную науку придворных интриг.
Из ничего, из одного любовного письма составилось целое государственное дело, раскрыт целый заговор, в котором оказались замешаны великие государственные люди. «Учись, Машка, — шептала Анна сестре, — запоминай. Никогда ничего не пиши, даже если умирать от любви будешь».
И сама она неукоснительно следовала этому правилу, в каждом подозревая предателя. Не такой была Маша, хоть и внимательно прислушивалась к словам старшей сестры.
Ясным солнечным днем в августе 1743 года перед театром — так именовался в официальных документах эшафот — возведенным прямо перед коллегиями, где заседал в это время Бестужев, собралась громадная толпа горожан.
На помосте, затянутом черным крепом, расхаживал палач в красном колпаке и красной рубахе, поигрывая топором и раскладывая свои орудия на особой подставке. Здесь был кнут с вплетенными в волосяную веревку кусочками железных полос, кинжал с остро отточенными краями, рукавицы и множество других непонятных предметов, составлявших гордость в ремесле палача.
На открытой телеге провезли сквозь толпу, раздавшуюся перед ней, двух главных виновниц — красавицу Лопухину и сноху Бестужева. Не пощадило Бестужеву ничто: ни то, что муж был вице-канцлером, ни то, что сама она по первому браку являлась женой Ягужинского, «птенца гнезда Петрова», ни то, что происходила из знатного рода Головкиных, ни то, что приходилась родственницей вице-канцлеру, находившемуся ныне у власти.
Обе женщины едва стояли на ногах, пытки сделали свое дело, и едва прикрытые шубами, но одетые в широкие рубашки под ними, они плохо различали и ревущую от удовольствия толпу, любившую эти кровавые представления, и ясное небо над головой, и сверкающую вблизи Неву. Им казалось, что небо над головой черное, а фигура палача раздваивается.
Но Бестужева взяла себя в руки. Она знала мир, знала людей и потому не растерялась даже на эшафоте. Она сама сняла с себя одежду, не боясь показаться обнаженной, но, улучив мгновение, сунула палачу в руку золотой крест с бриллиантами по краям.
Она знала, что палач на театре хозяин положения, ему рукоплескала толпа и осыпала подарками, он мог сделать все, что угодно. И несчастная женщина задобрила его, понимая характер русского человека того времени. Что ж, она вполне была удовлетворена.
Палач разложил ее на скамье, подмигнул толпе, перекинулся шутками с рядом стоящими зрителями. А затем кнут со свистом стал опускаться на голое тело. Но Бестужева не чувствовала ударов. В том и состояло искусство палача, чтобы бить так, как ему нужно. И свирепо вздымается кнут, и со свистом режет воздух, а на спину опускается неслышно, лишь поглаживая кожу. Со стороны казалось, что приговоренную секут жестоко и беспощадно, и она подыгрывала палачу. Крик ее разносился по всей площади, висел над головами людей.
Потом он сбросил ее со скамьи, схватил за подбородок, и острый нож сверкнул в воздухе. Но лезвие лишь слегка коснулось языка, а палач уже бросил в корзину окровавленный обрубок.
А потом он накинул на нее окровавленную рубаху, укрыл шубой, и она сошла в телегу, всем своим видом изображая мучение и страдание. Толпа ревела. Этот театр ее устраивал.
Но когда настала очередь немки Лопухиной, ее нрав сослужил ей дурную службу. Палач сорвал с фрейлины одежду, и толпа принялась улюлюкать и выкрикивать соленые шутки и издевательства. Молодая женщина стала отбиваться, не желая выставлять напоказ свое тело, бывшее предметом зависти самой императрицы. Она кричала, кусалась, отбивалась. Потом вцепилась зубами в руку палача, и он от неожиданности охнул, но уже через мгновение сжал ее горло, заставил выпустить руку, профессиональным движением раскрыл ей рот, вытянул язык и отхватил его до самого конца.
Вытянув руку с окровавленным куском, он крикнул толпе:
— Не нужен ли кому язык? Дешево продам…
Толпа ревела от удовольствия.
А потом его кнут засвистел над белоснежной спиной фрейлины. Лопухина потеряла сознание, но кнут сек и сек беспощадно, сдирая кожу со спины и оставляя на волосяной веревке куски. Лопухина очнулась от боли, и стыд уже не жег ее. Она мычала, едва ворочая обрубком, вздрагивала всем телом при очередном ударе кнута и обливалась неудержимыми слезами…
Бергер, впрочем, не достиг своей цели — по окончании процесса его все-таки отправили в Соликамск.