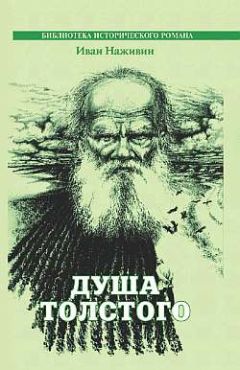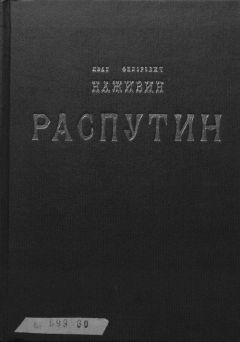«Толстой не верил в искренность людей, – говорил потом Тургенев. – Всякое душевное движение казалось ему фальшью, и он имел привычку необыкновенно проницательным взглядом пронизывать человека, когда ему казалось, что тот фальшивит». Тургенев утверждал, что никогда в жизни он не переживал ничего более тяжелого, как этот испытующий взгляд, который в соединении с двумя-тремя ядовитыми словами был способен привести в бешенство всякого. Особенно приставал Толстой именно к Тургеневу. Он как бы задался целью вывести из себя этого спокойного, доброго человека, работающего с уверенностью, что делает полезное дело. Но Толстой ни во что не верил, и ему казалось, что все эти добряки только притворяются добрыми и что они напускают на себя уверенность в пользе того, что они делают. Тургенев понимал ясно, как относится к нему Толстой, но хотел выдержать характер. Он стал избегать Толстого, нарочно уехал от него в Москву, а потом в деревню, но Толстой всюду следовал за ним, как – по его словам – «влюбленная женщина».
Много лет спустя в своей «Исповеди» Толстой так рассказывал об этой среде, о своих товарищах по литературной работе и о самом себе:
«И не успел я оглянуться, как сословные писательские взгляды на жизнь тех людей, с которыми я сошелся, усвоились мною и уже совершенно изгладили во мне все мои прежние попытки сделаться лучше. Взгляды эти под распущенность моей жизни подставили теорию, которая ее оправдывала.
Взгляд на жизнь этих людей, моих сотоварищей по писанию, состоял в том, что жизнь вообще идет развиваясь и что в этом развитии главное участие принимаем мы, люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы – художники, поэты. Наше призвание – учить людей. Для того же, чтобы не представился тот естественный вопрос самому себе: что я знаю и чему мне учить, – в теории этой было выяснено, что этого и не нужно знать, а что художник и поэт бессознательно учат. Я считался чудесным художником и поэтом, и потому мне очень естественно было усвоить эту теорию. Я – художник, поэт, – писал, учил, сам не зная чему. Мне за это платили деньги, у меня было прекрасное кушанье, помещение, женщины, общество; у меня была слава. Стало быть, то, чему я учил, было очень хорошо.
Вера эта в значение поэзии в развитии жизни была вера, и я был одним из жрецов ее. Быть жрецом ее было очень выгодно и приятно. И я довольно долго жил в этой вере, не сомневаясь в ее истинности. Но на второй и в особенности на третий год такой жизни я стал сомневаться в непогрешимости этой веры и стал ее исследовать. Первым поводом к сомнению было то, что я стал замечать, что жрецы этой веры не все были согласны между собой. Одни говорили: мы – самые хорошие и полезные учители, мы учим тому, что нужно, а другие учат неправильно. А другие говорили: нет, мы – настоящие, а вы учите неправильно. И они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали друг против друга. Кроме того, было много между ними людей и не заботящихся о том, кто прав, кто неправ, а просто достигающих своих корыстных целей с помощью этой нашей деятельности. Все это заставило меня усомниться в истинности нашей веры.
Кроме того, усомнившись в истинности самой веры писательской, я стал внимательнее наблюдать жрецов ее и убедился, что почти все жрецы этой веры, писатели, были люди безнравственные и, в большинстве, люди плохие, ничтожные по характерам – много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней разгульной и военной жизни, – но самоуверенные и довольные собой, как только могут быть довольны собой люди совсем святые или такие, которые и не знают, что такое святость. Люди эти мне опротивели, и сам себе я опротивел, и я понял, что вера эта – обман.
Но странно то, что, хотя всю эту ложь веры я понял скоро и отрекся от нее, но от чина, данного мне этими людьми, – от чина художника, поэта, учителя – я не отрекся. Я наивно воображал, что я поэт, художник и могу учить всех, сам не зная, чему я учу. Я так и делал.
Из сближения с этими людьми я вынес новый порок – до болезненности развившуюся гордость и сумасшедшую уверенность в том, что я призван учить людей, сам не зная чему».
Мне кажется, что излишняя схематизация своего прошлого несколько исказила действительность, а следовательно, и те выводы, которые сделал этот беспокойный ум из наблюдения этой действительности. В самом деле, едва ли много найдем мы писателей, которые думали бы об учительстве, – огромное большинство их смотрят на свое дело, как – по выражению Герцена – на «промысел». Впоследствии, когда мне пришлось часто беседовать с Толстым в тишине милой Ясной Поляны, он более точно устанавливал подлинные мотивы деятельности писателя: деньги, во-первых, и слава, то есть возможность получать еще больше денег, во-вторых. Но есть в горьких строках его «Исповеди» все же правда, которая могла бы несколько освежить общественную атмосферу, если бы только она была людьми услышана. Общими, часто бессознательными, усилиями писателей культурному обществу привит, и крепко, культ писателя: Толстой едва ли не первый пустил в эту душную кумирню[26] струю сквознячка. Но даже и Толстой не смог сделать тут ничего: божки остались на своих пьедестальчиках, и по-прежнему курит пред ними толпа свои фимиамы и, несмотря на все эти «сенсационные разоблачения» – в них недостатка не было и помимо Толстого, – продолжает видеть в них каких-то чуть ли не помазанников Божиих…
Но вся эта горечь – плод позднейших лет. А в то время Толстой наслаждался в полной мере своими молодыми победами и, как мы видели, сразу стал держать себя, как «власть имеющий». В конце 1856 г., чтобы развязать себе руки для новой, открывшейся ему деятельности, он вышел в отставку. И до того по-прежнему, больше прежнего был упоен жизнью и собой, что почти не заметил тяжкой болезни и смерти своего брата Дмитрия.
Кончив университет, молодой Дмитрий тоже пошел жизнью особенными, толстовскими путями, не как все. «Митенька, окончив курс, решил служить по гражданской части, – рассказывает Толстой. – Для того же, чтобы решить, какую именно службу избрать, он купил адрес-календарь и, рассмотрев все отрасли гражданской службы, решил, что самая важная отрасль это законодательство, и, решив это, поехал в Петербург». Он ходил там по разным чиновникам в нанковом пальто – под пальто ничего не было: костюм был излишен – и все допытывался у них, где и как мог бы он быть полезен. Чиновникам такой «постанов вопроса», как говорят крестьяне, был, конечно, чрезвычайно удивителен: о пользе Отечества они думали мало. Митенька, разочаровавшись, уехал в деревню, и Толстой потерял его из вида настолько, что даже не мог потом вспомнить, чем он там занимался. Он охотно сходился с монахами, странниками и всякими оригиналами, которых так много на Руси, и жил, не зная ни вина, ни табаку, ни женщин. И – вдруг его прорвало: он стал пить, курить, мотать деньги и ездить к женщинам. Но даже и в этой жизни этот высокий, сутулый человек со спокойными, прекрасными глазами вел как-то свою линию: ту женщину, проститутку, которую он узнал первой, он выкупил из публичного дома и стал открыто жить с ней. Но вскоре он заболел чахоткой, и тут только Толстой увидался с ним. Он был ужасен. Лицо – одни глаза, те же прекрасные, серьезные глаза. Он беспрестанно кашлял и плевал и не хотел верить, что умирает. Рябая Маша, которую он выкупил из публичного дома, повязанная платочком, робко ухаживала за ним. Все это потом Толстой воскресил и снова тяжело пережил в «Анне Карениной», в сценах болезни и смерти брата Левина, но тогда, в молодости, он был так полон собой, что как-то даже не заметил этого ухода брата. «Я был особенно отвратителен в эту пору… – рассказывает он. – … Мне было жалко Митеньку, но мало. Я повернулся в Орле и уехал, и он умер через несколько дней. Право, мне кажется, мне в его смерти было самое тяжелое то, что она помешала мне участвовать в придворном спектакле, который тогда устраивался и куда меня приглашали».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Справедливости ради надо указать, что первый роман И. Ф. Наживина «Глаголют стяги» выпущен издательством «Современник» в 1987 году. Затем, после длительного перерыва, в середине и в конце 90-х годов изданы мизерными тиражами еще семь его романов.