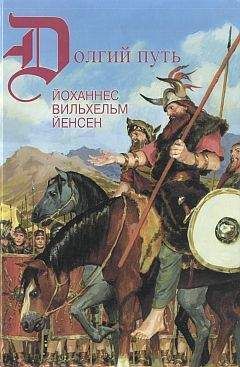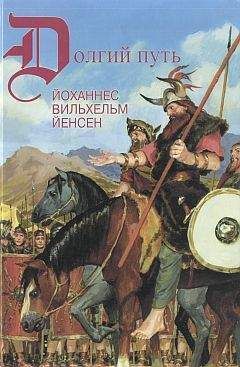День тянулся долго, и песни в конце концов смолкли — позади было много верст, и впереди еще оставался далекий путь. Когда уже к ночи они добрались до королевского лагеря, все были изнурены до скотского отупения. Светил месяц, и землю покрывал тонкий слой снега. Миккель шагал, уставясь себе под ноги, в последние часы он двигался, как во сне. Вдруг ему бросились в глаза косые тени, ложившиеся на снег впереди его шеренги — шесть беспокойно двигающихся теней. Он с удивлением отметил про себя, что тени совсем не одинаковы, некоторые, казалось, были посветлее, а его собственная была вроде бы немного темнее остальных. Он задумался над этим, на мгновение похолодел от страха — забыл виденное, снова вспомнил… а марш продолжался. Громадная масса людей все шагала и шагала вперед. Поодиночке они бы давно свалились от изнеможения, но все вместе продолжали идти, и Миккель тоже шел — он опять позабыл обо всем на свете.
Они пришли в лагерь, и им разрешили расположиться на отдых. Миккель ночевал в овине, где вповалку спало еще сто человек. Но едва он задремал, как его точно ошпарило изнутри, он вскочил, как встрепанный, хватая ртом воздух. Он увидел тот же темный овин, все было спокойно, но только что ему привиделось войско на марше, растянувшееся на несколько миль и заслонившее собою весь свет, — далеко впереди под нависшим небом маячили черные знамена, и он сам тоже шел в этом строю и чувствовал в душе ту бессловесную тоску, которая овладевает каждым измученным солдатом во время безостановочного марша. Почти одновременно с Миккелем вскочил и прерывисто дышал рядом с ним Клас. Тихонько и как-то по-особенному дружелюбно посмеиваясь, он шепотом сообщил Миккелю, что ему снилось сейчас, будто они все еще на марше.
В эту ночь Миккель еще несколько раз порывисто вскакивал ото сна, мучаясь ломотой во всем теле и кошмарным видением идущего войска. И каждый раз, просыпаясь, он слышал, как еще кто-то из постояльцев негостеприимного овина ворочается на соломе и стонет.
Саксонская гвардия соединилась с войском короля Ханса в январе. Впервые за последние два года у Миккеля нашлось с кем поговорить по-датски. Однажды он услыхал, что в королевском войске находится Отто Иверсен — он служил в чине прапорщика в кавалерии. Ненависть так и вспыхнула в Миккеле. Он сгорал от нетерпения поскорей повстречаться с Отто Иверсеном. Небось Отто Иверсен тоже от души ненавидит Миккеля? Что ж, надо надеяться! Но Миккелю никак не везло на встречу. Зато Клас однажды нечаянно столкнулся с Отто Иверсеном и рассказал Миккелю о своей встрече. Клас напомнил Миккелю о том вечере, который свел их всех в Копенгагене три года тому назад.
— Подумать только! — удивлялся Класс — Вот и Генриха нет… Умер Генрих, погиб от рук глупого мужичья. — Клас покачал головой: «Никогда, дескать, не забуду Генриха».
А нынешняя война уже шла своим чередом. Началась она, как известно, при страшной самоуверенности и кичливости в стане нападающих, а закончилась для них неслыханной бедой — их всех перерезали. В старые времена люди знали толк в драматическом искусстве и разыгрывали талантливые пьесы. Обратите внимание на антитезу, заложенную в основе этого сюжета, — перед вами рыцари, которые так искренно уверовали в свое превосходство, что оставили свои доспехи в обозе, а сами кичливо нарядились в раззолоченные одежды. И сам начальник — грозный полковник Слентц тоже верил, что его солдаты опрокинут и сметут дитмарскенцев, так сказать, голыми усами: вот они — пятнадцать тысяч сердец, которые так и распирает от горячей крови. Предмет насмешек рыцарей — герцог Пер Мельдорфский, граф Поуль Хемингстедтский. И в довершение всего — уже совершенно фантастическая licentia poetica [7] в виде тысячи пятисот обозных телег, заранее приготовленных для добычи. Вся эта гигантская машина не должна была удивить тех, кто не знал, чем кончится дело; ибо все это так обыкновенно и так согласно с человеческой натурой. Пока человек жив, для него только естественно воображать себя бессмертным. Высшая степень здоровья находит свое выражение в похвальбе и угрозах; самый сок человеческой энергии проявляется в безудержном вранье. Мужчина в расцвете сил стремится к убийству. Жизнь — это убийца.
Далее акт второй — резня{26}. Эти высокородные головы были расколошмачены крестьянскими дубинками среди пышных декораций, изображавших бурю и оттепель, снегопад с дождем при норд-весте и затопление побережья разбушевавшимся морем. Несколько выстрелов из десятка дрянных пушчонок — и вот уже ядра впиваются в тучное тело армии, смерть чавкала на этом пиру самым невоспитанным образом, уписывая богатое угощение. Они тонули, их затаптывали в грязь, и дитмарскенцы усердно отворяли горячую кровушку, которая так и хлынула потоком на волю. Старые вояки, будучи продырявлены, еще не так спешили истекать кровью, зато из молодых здоровых парней она выхлестывала круто, в один толчок. В этом-то и заключается весь цинизм и вся соль этой пьесы. Эффект, сюжета основывался, как уже сказано, на внутреннем противоречии.
Миккель Тёгерсен видел, как погиб Клас. Мужик дитмарскенец налетел на него сбоку и отхватил ему топором большой кусок черепа.
Через некоторое время Миккеля оттеснили в канаву, и он с головой погрузился в обжигающе холодную воду. Его немного отнесло вниз по течению, прежде чем он вынырнул. Уцепившись за что-то и немного отдышавшись, он увидел, что очутился рядом с королевской конницей. Это зрелище скорее напоминало котел, в котором варились кони и люди, чем стройные боевые порядки, — никто не мог двинуться ни вперед, ни назад. Все смешалось в этом кровавом побоище… Но Миккель высматривал Отто Иверсена и отыскал его. Тот находился в середине плотной живой массы и держал знамя. Конь его был зажат со всех сторон, Отто смирно стоял на месте, и вид у него был безразличный. Его лицо посинело от холода.
Миккелю любопытно было поближе разглядеть своего недруга и убедиться, что причинил ему непоправимое зло. Он остался лежать и дождался, когда Отто бросил на него взгляд. Отто Иверсена не взволновал вид Миккеля. Его руки окоченели до синевы. На морозе кожа делается ужасно чувствительной, и даже малейший удар по замерзшим костяшкам способен вызвать слезы у взрослого мужчины. Стужа отбивает обоняние. Миккель и сам был еле жив от холода. Он отдался на волю стремительного течения и поплыл дальше в ледяной каше среди мертвых тел. Миновав войско, он вылез на берег и живым добрался до Мельдорфа{27}.
На епископском подворье Йенса Андерсена Бельденака в Оденсе шел пир. Из окон падал на улицу свет, в темном городе это было единственное освещенное место.
Во двор въехал всадник; покуда он искал свободное кольцо для привязи, сверху до него долетали голоса, словно шумные порывы ветра: «Хо-хо!» Всадник прискакал издалека. Его звали Аксель. Он слышал, как шум перекатывался из комнаты в комнату через отворенные двери, и когда эти звуки, внезапно усилившись, могучим нескончаемым потоком хлынули вниз, точно вода через открытые шлюзы, он понял, что наверху распахнули дверь на лестницу, ведущую к открытому настежь парадному входу. Под взрывы раскатистого хохота и выкрики, доносившиеся из верхних покоев, он поспешил где попало привязать своего коня; среди общего гомона он различал чей-то отдельный хохот, который перекрывал слитное гудение и напоминал быстрый град барабанной дроби, — он то исчезал, то возобновлялся с новой силой, и Аксель с удовольствием вообразил себе человека, который смеялся этим смехом: каков у него должен быть вид, когда он издает такой рев во всю глотку и весь полыхает огнем, — он должен являть собою чудовищное зрелище, — воплощенный пожар. Аксель бегом взлетел по лестнице и с разгону ворвался в пиршественную залу.
Он подоспел как раз вовремя, чтобы увидеть, как четверо здоровенных ландскнехтов, протопав в ногу строевым шагом, поднесли к столу молодую женщину на большом медном блюде. Она сидела на корточках, ухватившись за его края, красуясь в наряде распущенных по плечам черных волос. Не дав никому опомниться, молодцы водрузили блюдо на стол среди прочей снеди. На беленых стенах пламенели факелы, за столом сидело человек двадцать бражников, и все надрывались от хохота — одни сгибались пополам, другие повалились назад. Пораженный этим зрелищем, Аксель всплеснул руками и застыл, стискивая пальцы, но между тем он уж успел заметить, что взрывы смеха, перекрывавшие хохот остальной компании, исходили от сидевшего во главе застолья здоровяка. Глядя на него, было видно, что не так уж он веселится, как можно было подумать по его смеху. То был епископ.
В этот миг в зале все стихло. Когда сотрапезники отсмеялись, оказалось, что шутка, пожалуй, вышла не так уж удачна; все смущенно переглядывались, косясь друг на друга покрасневшими и повлажневшими глазами; утерев слезы, иные пытались, но не могли возобновить прежнего хохота.