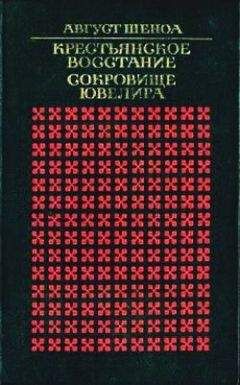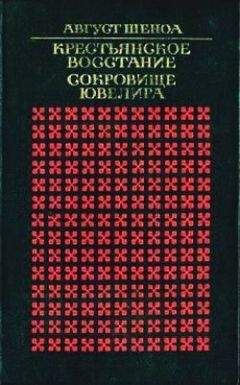– Послушайте, любезный, – проговорил Губец, подходя к слуге.
– А? – крикнул тот, смерив крестьянина глазами с головы до ног.
– Где уважаемый господин Тахи? – спросил Губец.
– А вон там! – снова крикнул слуга, показав пальцем на старика, стоявшего посреди двора. Губец посмотрел, куда указал слуга.
Посреди первого двора замка стоял пожилой человек среднего роста, коротконогий, короткорукий, но на вид необычайно сильный. На высоко поднятых плечах возвышалась крупная остроконечная голова; над узким высоким лбом вились длинные белые пушистые волосы. Лицо у него было красное, грубое, нос приплюснутый, ноздри широкие, губы толстые, борода и усы длинные и седые. Из-под густых, словно метелки, бровей глядели раскосые маленькие колючие серые глазки, всегда немного прищуренные. Поперек лба шел длинный шрам, а от ноздрей ко рту – две складки, так что казалось, будто на его лице всегда играет злорадная усмешка. Это и был Тахи, барон Штетенбергский. Правая рука его была заложена за борт зеленого расстегнутого камзола, а в левой он держал за спиной плеть; ноги его, в кожаных штанах и высоких сапогах, были широко расставлены. Он смотрел, как черноволосый, дерзкий на вид молодой человек в синем суконном одеянии с бранью и проклятиями укрощал взбесившегося коня. Из окна замка за молодым человеком наблюдало еще одно лицо: пожилая, белотелая, черноглазая и черноволосая дама; по ее тонкому носу и надменно приподнятым губам легко было угадать высокомерную породу Зринских. Дама в светло-зеленом платье, с белой шапкой на голове, судя по сходству лиц, была, несомненно, матерью молодого человека. Да, это была жена Тахи, урожденная Елена Зринская, а молодой человек – ее сын Гавро. Впрочем, это скорее был мальчишка, чем молодой человек, и скорее чертенок, чем барчук. Невдалеке от хозяина стояло несколько крестьян без шапок; здесь была и крестьянка с грудным ребенком на руках. Она горько плакала.
– Ну, Гавро, ну же, Гавро! Садись на него, взнуздай его! – кричал Тахи хриплым голосом, не обращая внимания на крестьян. Молодой белый конь турецкой породы был неукротим. Он извивался, как черт, становился на дыбы и тряс головой, но молодой человек сжал его ногами, пригнулся к шее, прилип к нему, как репейник, как змея.
– Вот так! – воскликнул отец и хлестнул и коня и сына плетью.
– Вот так! – крикнула и госпожа Елена из окна. – Эй, держи его, держи, не сдавайся!
– Это твой конь? – обратился Тахи к крестьянину, стоявшему поблизости и зорко следившему за всем происходящим.
– Да, ваша милость, – подтвердил крестьянин.
– А откуда у тебя такой конь?
– А он турецкий, я его у турка отнял, ваша милость, в прошлую войну.
– На что тебе такой породистый конь, – спросил Тахи, – на что он мужику? Я тебе окажу милость. На этом коне я сам поеду в Канижу, он лучше, чем Мркач моего свояка Николы. Понимаешь, этот конь мой.
– Но, ваша милость, – заговорил жалобно бывший кавалерист бана.
– Убирайся отсюда! – крикнул Тахи. – Благодари бога, что жив остался. Марш отсюда!
Несчастный крестьянин еще раз бросил взгляд на красавца коня и побрел, опустив голову. К Тахи подошла женщина с ребенком.
– Ваша милость, – проговорила она сквозь слезы.
– Ну-ка, Гавро, прогони его еще разок по двору, – крикнул Тахи, не обращая внимания на женщину.
Молодой человек понесся как сумасшедший, а женщина повторила:
– Ваша милость…
– Что тебе? Кто ты? – спросил Тахи.
– Я Марушич из Запрешича.
– Ну?
– Ваши слуги отняли у меня все мое убогое имущество.
– Будет меньше забот, – засмеялся Тахи. – Давай, Гавро!
– Но ведь я голодна, гола, боса; это же все мое было.
– Твое? А что может быть твоим? Ничего нет твоего. А, теперь припоминаю. Своего откормленного вола требуй с госпожи Уршулы.
В эту минуту Гавро подскакал к месту, где стояла женщина с ребенком, и сбил бы ее с ног, если б не неожиданно подбежавший Губец, который схватил коня за узду. Женщина с плачем отошла… Конь стал. Старый Тахи остолбенел и посмотрел на крестьянина.
– Ты кто? – спросил он.
– Матия Губец, – спокойно, но смело ответил крестьянин.
Хозяин смерил его взглядом.
– Губец? Губец? – спросил он. – Ах да! Ты из Верхней Стубицы, не так ли?
– Да, ваша милость.
– Это ты – ложный пророк, крестьянский бог, – заметил насмешливо хозяин, – мой кмет.
– Я кмет стубицких господ, – ответил спокойно Губец.
– Чего же ты, редкий гость, хочешь, какой милости? – спросил Тахи. – Слышал я, что ты гордец; я тебя еще не видел.
– Я не милости искать пришел, – продолжал крестьянин, – а права.
– Кмет – права? – удивился Тахи.
– Да, ваша милость; я слышал, что ваша милость записывает молодых людей в конницу.
– Да, ну и что ж?
– Я слышал, что записан и Джюро Могаич из Стубицы, сын моей сестры.
– А, да! Могаич? Да, записан, – вспомнил Тахи.
– Но Джюро свободный, – сказал Губец, – он не обязан служить в войске, да к тому же он собирается жениться.
– А тебе-то какое дело?
– Я ему дядя, вместо отца и матери. Он на моем попечении, вот я и пришел напомнить вашей милости.
– Что он – свободный! – оборвал его Тахи. – Мне все равно. Он пойдет со мной, всадником. Он не смеет жениться, понимаешь? Он должен быть со мной. Он, мерзавец, бунтует.
– Он свободный, – возразил спокойно Губец, – он не обязан идти в солдаты, он может жениться.
– Ферко, – закричала из окна госпожа Елена, – и ты все это спокойно слушаешь?
– Не обязан, – Тахи вспыхнул и поднял плеть, – не обязан, крестьянская ты собака! – И он замахнулся плетью на Губца.
– Остановитесь, сударь, – и, поглядев на Тахи, крестьянин с серьезным видом поднял руку. – Меня никто не бил, кроме турецкой сабли на службе короля.
Рука суседского господина опустилась. Он прищурился и окинул крестьянина злобным взглядом.
– Скажите мне, уважаемый господин, что вы намереваетесь делать с Джюро?
– Это ты вскоре увидишь, каналья, а пока я тебе велю попридержать свой собачий язык! Не выходи из дому, иначе я прикажу впрячь тебя в ярмо в воскресенье, перед стубицкой церковью, – крикнул Тахи и быстрыми шагами пошел к замку.
А крестьянин стиснул зубы, сжал кулаки, посмотрел в сторону высокого замка и прошептал:
– И ты вскоре увидишь, кровопийца!
И быстро пошел под гору к селу.
Высоко над Брдовцем плыла луна, и неподвижные листья блестели в ее лучах, словно серебро; не слышно ни души; во всех окнах села уже темно, только из одного струился свет. Около него, облокотившись на забор и повернув к луне лицо, стояла Яна, а перед ней молодой Джюро Могаич. Темные глаза девушки сияли необычайным блеском, а лицо было озарено такой улыбкой, словно ей снился рай. Джюро прислонился к столбу, глядел на девушку и никак не мог наглядеться.
– Яна, – сказал он нежно, – довольна ты, что все так вышло?
– И ты еще спрашиваешь, Джюро! – ответила девушка улыбаясь. – Я знала и верила, что ты меня не обманешь, потому что ты честен, но мне и во сне не снилось, что я так скоро буду твоей. Я даже боюсь, не верю такому близкому счастью.
– Неужто ты меня боишься? – спросил парень.
– Смотри-ка! Воображает, что я его боюсь! Я-то? Да я ни одного мужчины не боюсь. И с какой стати? Но у меня прямо голова закружилась: сперва ты мне сказал, что тебя хотят забрать воевать с турками, а потом – что мы вскоре повенчаемся. Не знала, смеяться мне или плакать. Все у меня в голове перепуталось.
– Не бойся, Яна, и эта забота пройдет, а через несколько дней ты увидишь, что все это правда.
– Ах, – продолжала девушка полушутливо, – ты ведь меня обманул! Боже мой, вот беда!
– Какая беда? – спросил Джюро с удивлением.
– Эх, я была такой прилежной пряхой и, слава богу, достаточно напряла, но соткано мало, а сшито еще меньше. Прямо стыд!
– Об этом, Яна, не беспокойся. И после найдется время.
– Да, после; но что скажут твои родственники, как станут по пальцам считать белье и каждую ложечку и упрекать меня, что я ничего не принесла в дом. Но, ей-богу, это не моя вина. Я сама хотела сделать все как можно лучше, и сделала бы, да отец не давал: «Не порти глаза по ночам; ты не знаешь цепы этого божьего дара, а свадьбу, может быть, придется ждать до морковкина заговенья». И я думала так же и довольно наплакалась, как вдруг свадьба-то на носу, а пряжа еще за печкой висит! Грустно.
– Разве тебе грустно идти за меня?
– Поди ты, – рассердилась притворно девушка и ударила жениха по плечу, – что за глупые шутки! Бога ты не боишься, что всякое слово оборачиваешь в худую сторону. Знаешь ведь, если б я не хотела пойти за тебя, так не пошла бы. Но мне грустно, что я так вхожу в твой дом. Я хоть и бедная, но милостыни не прошу.
– Вишь, какой кипяток! – Джюро улыбнулся, схватил девушку за плечи и посмотрел ей весело в лицо. – Эх, Яна, родная, брось мотать пряжу. Главное, что ты моя, моя. О другом я не забочусь. И пусть только кто-нибудь посмеет тебе слово сказать, я ему все кости переломаю.