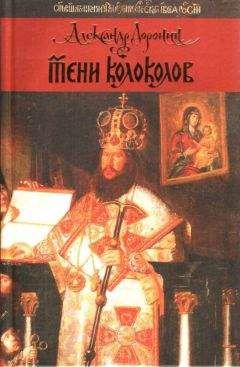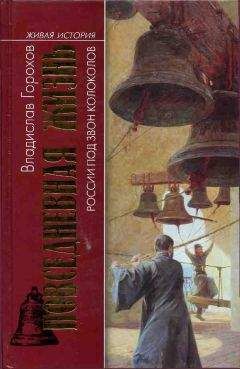— У соседа веник среди мусора встал вниз головой…
— У боярина Морозова работница безногого паренька родила…
О плохом говорили шепотом. Пошепчутся — и в сторону. Опасаются люди. Как не будешь опасаться — стрельцы днем и ночью ищут колдунов. Они говорят, что колдуньи и ведьмы Патриарха сглазили — с постели не встает. Слышали на Москве, что двоих таких колдунов поймали и языки им отрезали.
В Кремле, перед покоями царя, постоянно горели костры. Вниз, к реке Яузе, от тающего снега сбегали ручейки.
Под утро, когда заалел восточный край неба, царь Алексей Михайлович подошел к окну, тонкими пальцами поскреб заиндевевшее стекло и сквозь проталинку посмотрел на улицу. В морозном воздухе белыми бабочками порхал снег; горели костры. Монастырские колокола били не переставая. «Дальше как быть, если Патриарх покинет нас?» — эта мысль неотступно мучала Алексея Михайловича который уж день. Сел на широкий диван, стал теребить в раздумье бороду. Молчали и сидящие около него: митрополит Корнилий, Стефан Вонифатьев, бояре. Все они с утра пораньше уже посетили умирающего. Иосиф лежал тихо, с закрытыми глазами.
На желтом его виске бился пульс. Зажатую в руке незажженную свечу он не мог удержать. Она без конца падала. Поправят — она вновь упадет. Нет, не жилец больше святейший…
Зимний день быстро угас. В Кремле было тихо. Вечером царь опять посетил покои Патриарха. Всё было без изменений.
Алексей Михайлович наклонился к уху еле дышавшего Патриарха:
— Святейший, Божью землю кому оставишь?
Восковое лицо Иосифа сморщилось. Больной, видимо, услышал вопрос — тонкими руками слабо взмахнул, будто с огорода ворон прогнал.
Царь от неожиданности отпрянул. Стоящие сзади него бояре тоже попятились. До царя донесся чей-то змеиный шепоток, и он взял себя в руки, спросил уже громче и яснее:
— В чьи руки отдашь нас, овец своих?
Жилка на виске Патриарха запульсировала сильнее, посиневшие губы с трудом раскрылись:
— Бог… Бог… кого… кого… Па-а-а..
Тело его вздрогнуло, распрямилось во весь рост, уставшие глаза расширились, потом вновь закрылись. «О-а!» — успел вдохнуть глубоко Патриарх, и вылетел дух его вон.
Алексей Михайлович заплакал навзрыд. Монахи и бояре, стоящие сзади, тоже заплакали. Только Борис Иванович Морозов, свояк царя, грубовато бросил:
— Царство небесное! Отмучился, страдалец! Хватит бороды мочить! Все там будем!..
Алексей Михайлович поднял голову к образам. Взгляд его случайно пал на темно-синий квадрат неба в окне. По бархату ночного небосклона, ослепительно вспыхнув, пролетела звезда и погасла. «Знамение, — устало подумалось царю. — Звезда Иосифа закатилась. Чья же взойдет ей на смену?»
* * *
Москву загородили со всех сторон. Стрельцам было велено не пропускать ни людей, ни зверей, ни птиц. Береженого Бог бережет. Без духовного отцовства всё бывает. Закрыли даже посольские дворы.
— Отчего такой большой испуг — всего-то Патриарх умер?! — спрашивал молодой стрелец, охранявший ворота Кремля, своего сотоварища, стрельца постарше. — Без него что, Москва рухнет?..
— Эко, ты как грудной ребенок, — засмеялся тот. — Когда ущипнут душу, разве тело не сожмется?..
Молодой повел плечами, будто от ледяного ветра. Но ветра в это утро не было. День обещал быть теплым — прошедшей ночью дождь почти наполовину растопил снег. Солнышко грело по-весеннему. Не день — крашеное пасхальное яйцо.
Весть о смерти Патриарха разошлась по всем российским землям и дошла до соседних государств. Там судили-рядили, ожидая официальных сообщений из Москвы. Но Москва молчала. Видимо, готовила пышные похороны. Такие похороны, каких не было после смерти Патриарха Иова.
Тот был свирепым — два царя перед ним тряслись. А схоронили его быстро и тихо, без лишнего шуму, словно боялись, что усопший передумает умирать и воскреснет. Схоронили и сразу забыли.
Смерть Иосифа всколыхнула большую страну. Несмотря на тихий характер Патриарха, он, видимо, много значил для Церкви. Возможно, так возвеличил его царь, ведь царское слово сильнее боярского приказа. Перед ним трепетали даже знатные вельможи, хотя в народе славился добродушием. Иногда выходил из Патриаршей палаты побродить по улицам Москвы, один, без свиты. Со стрельцами здоровался, купцов обо всем расспрашивал. С царем, правда, в последнее время у него не было согласия. Но Иосиф, избегая открытого спора с Государем Всея Руси, прибег к помощи Собора, который вынес решение: «Службы церковные проводить по-старому, нового не начинать».
Но Алексей Михайлович не подписал это Соборное уложение, потому что хотел многое изменить в государстве, чтоб оно стало крепким. И в первую голову — в церковных делах. Тут, наверное, направляющая рука его духовника чувствовалась. Стефан Вонифатьев часто повторял:
— Патриарх и его приспешники готовы христову веру без языка и глаз оставить. А кому она нужна — немая и слепая.
Иосиф не царя боялся, а верующих людей. Знал: не сумеешь удержать эту могучую силу и повлиять на нее — она тебя сомнет, раздавит, не посмотрев, кто ты. В храмах, как и раньше, каждый поп был хозяином, пел-читал то, что в голову приходило, службу правил, как умел.
Надо сказать, жизнь простых попов была нелегкой. Пройди-ка по той же Москве, на базар зайди — там они, батюшки, в худых лаптях ходят, одежда рваная. Под ногами грязь хлюпает, бороды мокрые, лица сине-красные. Словно холопы беглые, а не божьи слуги! Есть, конечно, и богатые среди них. У таких попов на груди — блестящие кресты, шеи толстые, как у бояр, и походка ленивая. Только таких мало. Но народ любит своих батюшек, не случайно так любовно величает… Поминки, свадьбы, крестины и похороны без батюшек не обходятся. Там они не только молятся, но и пляшут, и поют. Одуреет поп от вина, сворует чего — и побьют его те же, с кем плясал и пел. Снимут с него рясу, повесят на кол (кинуть на землю считалось большим грехом) — и давай его «учить». Но вот крикнет шатающийся поп: «Ироды! В грехах утонете!» — и кто только не бежит на его выручку! В это время за грудки народ не цапай — надвое разорвет.
Их, этих попов, Иосиф не любил, считал «телячьей жвачкой», и они ему тем же платили.
* * *
На пути с Соловков к Москве посольство Никона не единожды встречалось с царскими гонцами. В одном из писем Государя, длинном и путанном, митрополит прочел о смерти Иосифа.
Начались траурные дни. Москва будто погрузилась в глубокий сон. Даже в Китай-городе, где всегда было людно и шумно, сейчас ни одного голоса не услышишь. Иногда, правда, где-нибудь звонарь лениво потянет за веревки — и опять тишь. Только по великим праздникам церкви восхваляли Бога удивительным колокольным пением. Вот, Варварина пробует свой голос, за ней вступает церковь Дмитрия Солунского. Когда же Успенский собор зазвенит колоколами, дома начинают дрожать. Траур в Москве — хуже всякого поста. Особенно нищим плохо и калекам. Базары молчат, гульбы на Москве-реке не слыхать. Никто не подает и стащить негде.
По серому небу плывут ленивые облака, задевая кресты, выцветшими глазами осматривают улицы. У церковного забора сидят несколько калек, почесываясь и гнусавя изредка навстречу прохожему. Но просить и тем более хватать за подол не смеют. Только скрюченная старушка в лохмотьях тоненько, по привычке, тянет:
— Ра-а-ди-и Хри-и-ста-а! По-дай-те, ра-а-ди-и Хри-и-ста-а!..
Под длинным прилавком в пустом мясном ряду лежит грязная дворняжка и лениво выкусывает блох. Она привыкла здесь кормиться в базарные дни. Но сейчас в мягкой густой грязи не найти даже свиной щетинки.
В задремавшую собаку летит камень. Она вскакивает, испуганно тявкнув. Мимо бредет белобрысый мальчонка, стриженный под горшок. Шмыгнув, утирает нос рукавом левой руки, а правой бросает в собаку второй камень. Заскулив обиженно, та убегает прочь.
Скучно в Москве. Одним пшенным супом от домов тянет. От этого запаха не развеселишься.
Шагает по пыльным улицам дьяк Алмаз Иванов. Идет по Варваровке, думает о том, о сем. Сзади, чуть в сторонке, спешит за ним охрана. Шаги Алмаз делает широкие, будто саженью землю измеряет. А сам глядит зорко по обе стороны, словно шилом, прокалывает глазами. Вон, прижавшись к церковной изгороди, посмотрела в его сторону неумытая женщина. По виду — глуповатая. Алмазу нужны люди с длинными языками, сплетники. Надо знать, чем столица живет, о чем думает и что делать собирается.
Дошел дьяк до кабака. Около него стояли три бородатых мужика. Видимо, уже и бражкой угостились: что-то шумно обсуждают, размахивая руками. Из уст таких вот краснобаев и выудишь «рыбы» всякой — обо всей Москве-матушке правду узнаешь…
В питейном заведении языки развязываются охотнее, чем в церкви. Попам на исповеди не признаются, а водке в трактире откроются.
С хозяином кабака дьяк поздоровался и даже улыбнулся ему. Со всех ног бежал половой, шустрый малый, согнутый в угодливом поклоне почти пополам. В глаза Алмазу посмотрел снизу вверх, ласково, как собака. Ждал, что прикажет.