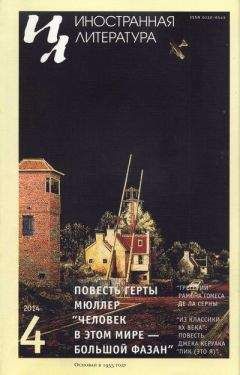К тому же выяснилось, что наказание лишь подталкивает моего брата к тому, чтобы еще сильнее ущемлять меня. Хуже того, у меня складывалось впечатление, что робкие упреки родителей как бы реабилитировали его преступления и нередко приводили к тому, что он или избивал Джанни и других слуг, или же издевался над ними и унижал их.
Поэтому, храня молчание, я старалась сберечь собственное достоинство и не подвергать своих друзей опасности. Я прикидывалась глухой, когда Мингуилло оскорблял меня или требовал исполнить очередную его прихоть. И какую бы гадость по отношению ко мне он ни совершал – я рисовала и записывала ее в своем дневнике, не говоря окружающим ни слова. Я рисовала самых отвратительных тварей, и каждая из них олицетворяла собой какое-либо издевательство или проступок Мингуилло. А потом я складывала листы так, что его образ всегда оказывался внутри.
Время от времени, пользуясь случаем, я пробиралась к нему в комнату, где и прятала свои рисунки в нише позади его огромного гардероба, который размерами не уступал каменному дому. Мне приходилось ложиться на спину, чтобы проползти между его выгнутыми ножками и дотянуться до глубокой, пыльной и прохладной ниши за его дубовой стенкой. Мингуилло ни разу не пришло в голову обыскать собственную комнату.
Мои подробные и красноречивые дневники оказались недоступны для него. Мое молчание сбивало его с толку. Конечно, в той опасной игре, которую мы вели, это были слабые козыри, но они оставались единственными, какие были у меня на руках.
Желтая лихорадка в 1803 и 1804 годах означала, что мой хозяин, мастер Фернандо Фазан, не сможет воротиться домой из Перу, не проторчав несколько месяцев в строгом карантине. Порт Ливорно был полностью закрыт. Сама Венеция закупорилась крепче морской раковины. Долгое время не было никакой возможности передать весточку отцу Марчеллы, даже если бы я подобрал слова, чтобы написать ее.
Я обзывал себя всякими крепкими словечками: «лизоблюд», «бесхребетный анчоус» и «трус». Потому как дела у нас шли все хуже и хуже. С каждым прошедшим месяцем Мингуилло все больше превращался в дикаря, в котором не оставалось ничего человеческого. Но однажды глаза Ривы взглянули на меня с портрета, когда я шел по коридору. И той же ночью, ощущая на своей шее теплое дыхание маленькой Ривы, я принялся излагать свои страхи на бумаге. Ох, и нелегкое же это дело, доложу я вам!
Я передал письмо с торговцем бренди, с которым познакомился в одной ostaria[37] в Риальто. Он как раз отправлялся и Арекипу, чтобы проверить своих агентов и фабрики, намереваясь обойти установленные испанцами торговые запреты. Рябинки, оспины и впадины на его лице во весь голос кричали: «Я уже переболел всем, чем можно!»
Впрочем, покинуть Венецию вам удалось бы без проблем – а вот вернуться обратно вышло бы не так легко.
Слуги скинулись и дали мне денег, чтобы оплатить передачу письма. «Это все, что у нас есть», – сказал я господину Рябому Торговцу, вручая ему кошель с монетами и нашу веру.
Я проводил его до корабля, а потом помахал рукой вслед, желая ему и нашему письму доброго пути в Южную Америку.
В своем письме я подробно разобъяснил, что Мингуилло вытворяет с Марчеллой, причем слуги боятся сказать ему хоть словечко поперек, а девочка сама хранит странное и непонятное молчание, и еще – и это было самое трудное – что хозяйка дома смирилась с поведением своего сына. Стая червей в лице дядьев и теток, сидящих по норам в своих гнилых апартаментах, разумеется, не заслуживала упоминания. Они вели себя тише воды, ниже травы, только чтобы не разозлить Мингуилло, как будто он был законным наследником и держал в руках ключи от их домов.
В подробностях я запутался, перескакивал с одного на другое, как болтливая обезьяна, но даже полному идиоту этого было бы достаточно, дабы уразуметь, что я пребываю в отчаянии и что его маленькой дочурке грозит нешуточная опасность.
В конце концов, он сам просил меня писать ему.
Если это письмо не заставит моего хозяина, мастера Фернандо Фазана, воротиться из Арекипы, карантин там или не карантин, значит, он не заслуживает быть отцом такого маленького ангела, как Марчелла Фазан.
Письмо моего отца, адресованное матери, пришло через четыре месяца после того, как он отправил его.
Подобная задержка объяснялась красной печатью с головой льва святого Марка и буквой «S».[38] Письмо прошло spurgata[39] в карантине, проведя последний отрезок своего путешествия на острове Лазаретто Веккио, где его вскрыли и окурили дымом. Штамп означал, что власти сочли письмо не зараженным желтой лихорадкой, чумой и проказой. К несчастью для меня, почерк отца ничуть не пострадал от подобной обработки.
Но гораздо больше мне повезло в том, что я успел перехватить его, прежде чем оно попало на поднос с завтраком для матери. Прочтя его, я ощутил, как волосы на голове у меня встали дыбом, а нога принялась выстукивать нервную дробь по мраморному полу под моим столом.
Отец приказывал матери организовать медицинское обследование их сына Мингуилло священниками-врачами на острове душевнобольных Сан-Серволо.
«…Мне стали известны некоторые последние события. Он явно не в своем уме, Доната, – писал мой отец. – Этим следует заняться немедленно ради блага нашей семьи. Его разум развивается не так, как у нормального человека».
Я едва успел пробежать письмо глазами, как воображаемый порыв ветра подхватил его и через окно унес вниз по Гранд-каналу. Оно так быстро исчезло из виду, что любопытная мартышка не успела бы пересчитать пальцы у себя на ногах.
Из окуренного дымом письма я узнал, что отец каким-то образом осведомлен о моих маленьких играх с Марчеллой. Это означало, что в доме завелись шпионы и предатели. Что, в свою очередь, предполагало проведение расследования.
Я начал с моей дорогой мамочки, за которой установил тщательное наблюдение. Увы, это была явно не она. Я обнаружил, что у меня нет никаких причин подозревать и нашего священника, и симпатичных и напыщенных лекарей Марчеллы. Слуги были неграмотны. Ну, так откуда же отец мог узнать о моих проделках в своем далеком Перу? Оставались кое-какие неясности. Я не мог прикоснуться к Пьеро Зену, хотя и подозревал его.
Используя желтую лихорадку и карантин в качестве прекрасного предлога, мой родитель продолжал болтаться без дела в Перу. Разумеется, он полагал, будто своим письмом исполнил обязанности по отношению ко мне и моему предполагаемому безумию. Но он не знал, что его ценные указания плывут вместе с отбросами тысяч уборных вниз по Гранд-каналу.
Месяц проходил за месяцем, не доставляя мне никаких неприятностей. Моя тревога понемногу улеглась. Каждый вечер я насильно кормил сестру арбузом, уверяя ее, что красные сочные дольки – это именно то, что ей нужно для полного счастья, пусть даже ее мочевой пузырь переполнялся при этом. В продуваемой насквозь спальне по моему распоряжению ей была предоставлена лишь маленькая глиняная жаровня с несколькими жалкими углями, так что она даже не могла согреть свои почки.
– Так ей будет лучше, – заявил я, взмахом руки, в которой была зажата чудесная книга в кожаном переплете, успокаивая протесты слуг.
Они не знали, что это была «Жюстина, или Несчастья добродетели», авторство которой принадлежало многоуважаемому (по крайней мере мной) маркизу де Саду.
Хотя даже слуги ненавидели меня, книги любили и передавали из рук в руки своим друзьям. Де Сад познакомил меня с Руссо, который, в свою очередь, привел меня еще к одному интересному малому по имени Томас Дэй. Сей предприимчивый англичанин удочерил девочку-найденыша, вознамерившись сделать из нее достойную супругу для себя. Его Сабрина подверглась многим творчески разработанным воспитательным методам. Например, она была обязана научиться стоицизму, когда на руки ее капал расплавленный воск. А самообладание она обретала, позволив своему наставнику стрелять ей дробью между ног по юбкам.
Мне было нетрудно обзавестись ружьем, а вот отыскать укромное местечко, чтобы поупражняться во владении им, оказалось намного сложнее. Все долгое лето я раздумывал над этим, воображая, как пуля пробивает белье навылет, словно маленький черный кролик, выскакивающий из засыпанной снегом норки.
Доктор Санто Альдобрандини
После пяти кровавых лет, проведенных на полях сражений, мой хозяин, доктор Руджеро, сам получил в бок шальную пулю. Кое-кто утверждал, что в него стреляли наши собственные солдаты, которых он оскорбил своим злым языком. По дороге домой, в Венето, за ним нужно было ухаживать, поэтому он взял меня с собой. Так что война для меня закончилась, по крайней мере эта война Наполеона.
Однако же моя война с болезнями и болячками продолжалась. Но теперь я лечил пациентов не в полевых условиях под огнем противника, а в страдальческом уединении их постелей в хижинах или дворцах. Меня очень трогало то, что бедняки просили у меня прощения за то, что их болезни столь обыденны, «после всего, что вы повидали на поле боя, доктор». А богатые приводили меня в ужас тем, что, не испытав на себе тягот войны, смаковали самые ничтожные симптомы своих хнорей, ожидая от меня колоритных названий для них и еще более оригинального лечения, словно болезнь для них была лишь очередным развлечением. Мне редко доводилось заниматься главами семейств. Этим людям некогда болеть: для Этого они слишком заняты. Зато их дети, находящиеся на содержании родителей, кузены и племянники, изнывающие от скуки под бархатными одеялами с разрезным ворсом, часто становились моими клиентами. Подобно глистам, эти приживалы вполне уютно чувствовали себя в домах своих щедрых хозяев, безжалостно вытягивая из них все соки, пока не наступала смерть. И тогда они демонстрировали редкие вспышки энергии, подыскивая себе новую, еще полную сил жертву, в которую можно было вонзить свои ядовитые челюсти. Эти сыновья, дочери, кузины и племянники не чурались ни ядов, ни коварных удушений.
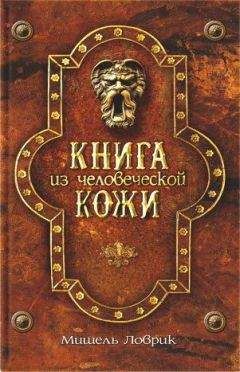
![Мишель Ловрик - Книга из человеческой кожи [HL]](https://cdn.my-library.info/books/187346/187346.jpg)