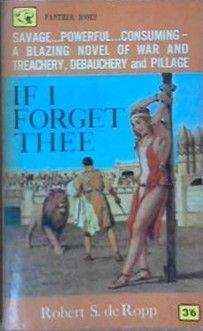Этот танец с покрывалом был знаменит в Иудее за сладострастие, и он оказал на Ирода до того сильное впечатление, что он даже отрубил голову пророку Иоанну, чего хотела Соломея, что чуть не привело к мятежу, так как народ любил этого Иоанна. Ну а Ирис не нуждалась в дополнительных призывах, и встав в середине двора, начала немедленно извиваться, закрывая глаза и приоткрывая губы, как женщина охваченная экстазом любви. А так как для произведения соответствующего эффекта не было подходящего покрывала, она позаимствовала у Британника его плащ и закуталась в него, давая ему виться и вздыматься вокруг ее тела, то пряча, то открывая то, то находилось под ним.
И правда, маленькая шлюха достаточно хорошо знала, как возбудить в мужчинах страсть, потому что сбросив плащ, она грациозно расстегнула поясок на талии и неожиданно гибким движением освободилась от туники и стала танцевать нагой, с таким бесстыдством и с такими двусмысленными движениями, что они могли бы возбудить похоть даже у восьмидесятилетнего старца. И все же все ее усилия были напрасны, потому что ее танец лишь еще живее напомнил мне Ревекку, так что я видел ее в грезах наяву. Когда она закончила танец, и жаждала награды, покрасневшая и запыхавшаяся, подбежала, чтобы лечь рядом со мной, я, казалось, неожиданно очнулся от своих грез и не смог скрыть грусти, обнаружив, что рядом лежит не моя любимая, а девушка-рабыня. И хотя она обняла мое тело и потянулась к моему лицу, чтобы я ее поцеловал, я не обнял ее, но мягко разжал ее руки, предложив ей выпить, потому что она танцевала с таким пылом, что ее лицо стало пунцовым, а по голой коже катились бисеринки пота. Но она, чувствуя отказ, оттолкнула кубок и надувшись подбежала к моему отцу, жалуясь на мое безразличие. На что отец утешительно похлопал ее по заду и воскликнул, что должно быть я сделан изо льда, так как даже он, слепой, ощутил призывную силу танца Ирис.
— Ты более сладострастна чем Иродова Соломея, — заявил он. — Но Луций весь в печали по другой женщине, и даже твой танец не в силах оторвать его от нее. Не расстраивайся. Это вечная болезнь юнцов. Вот тебе золотая цепочка для пояска и застежка на плечо. Отдохни немного, а потом станцуй опять. Луций, дай руку. Я должен ненадолго выйти, но скоро вернусь.
Я встал и взял отца за руку, чтоб проводить его со двора, а Ирис утешилась, занявшись любовью с Британником.
— Солнце село, — ответил я. — Но еще не темно. На западе небо освещено красноватым светом. На горизонте появилась вечерняя звезда.
— Это планета Венера, — заметил отец. — Хорошо, что она смотрит на нас, потому что история, которую я должен тебе рассказать, касается ее.
Он запнулся, будучи слегка пьян, и велел вести его к виноградной беседке. Там он сел и, поправив свою тогу, подозвал меня сесть рядом.
— Итак, — сказал он, — ты теперь мужчина. Римлян. «Римляне, владыки мира, народ, облаченный в тогу» как говорит Виргилий. Но не полностью. Мы одни, Луций?
Я вышел из беседки и осмотрелся. Никого не было видно. Из дома неподалеку слышалась музыка и смех гостей.
— Мы одни, — сказал я. — А наши гости веселятся.
— Вскоре мы вернемся к ним, — заявил мой отец. — Но сначала я должен рассказать тебе одну историю, историю, касающуюся тебя. Да, это очень странно, что ты должен был влюбиться в еврейку. Колесо жизни идет по кругу, таково мнение пифагорейцев. С того места, где мы сидим, мы вновь возвращаемся и все повторяется, пока душа не освободится от уз и не присоединится к веренице бессмертных богов. Но даже пифагорейцы не утверждают, что сын обязательно должен повторить глупость отца.
— Что ты имеешь в виду? — спросил я. — Какие твои глупости я повторил?
— Подожди. Не так быстро, — предостерег отец. — Я должен сказать тебе кое-что. Дай мне рассказать тебе все по своему. В храме в Дельфах высечено изречение «Познай себя». Какой совет может быть лучше, Луций?
— А то, что ты расскажешь, позволит мне лучше познать себя? — спросил я.
— Нет, — ответил отец. — Такого знания никто не может дать. Каждый должен в одиночестве пройти по лабиринту своей души, встретить минотавра, и либо убить его, либо быть убитым. В этом одиноком путешествии у человека нет попутчиков, и он должен сам столкнуться с ужасом внутренней тьмы. Этот миф аллегория и без сомнения отсылает нас к внутреннему и внешнему миру человеку. Здесь есть загадка, и лишь мудрый человек может проникнуть в ее значение. Но довольно философии. Я подхожу к главной теме. Что ты испытываешь по отношению к евреям, мой Луций? Считаешь ли ты их чужой, зловещей расой, как думают многие римляне?
На этот вопрос я ответил, что они не чужие, и не зловещие, и что я чувствую близость к ним и сочувствую их страданиям. И я рассказал отцу об интересе к их вере, о том как я много раз стоял во дворе неевреев и смотрел сквозь открытые ворота на Святилище и гадал, какая священная тайна спрятана за великолепием золота и мрамора. Я рассказал ему и о том, как сидел у ног рабби Малкиеля, когда он учил своих последователей у ступеней крепости Антония, и как я читал Тору и пророков и обдумывал различия между религией греков и евреев.
— Все это кажется близким мне, — говорил я. — Временами я чувствую себя ближе к ним, чем к римлянам. Возможно, что это не так уж и удивительно. Разве я не родился и не вырос на земле Иудеи? Я дышу этим воздухом, ем хлеб, что произрастает на ее почве. И точно так же, как мое тело было создано этой землей, так и моя душа впитала веру этого народа.
— Есть нечто большее, — произнес мой отец. — Узы, что связывают тебя с Иудеей, это узы крови.
Все это ошеломило меня, и я начал гадать, каково же мое происхождение, и кто меня породил. И потому я спросил Флавия Кимбера, действительно ли он мой отец.
— Я твой отец, — подтвердил он. — Разве глядя на себя, ты не видишь, как похож на меня? Но моя жена Квинтилия не является твоей матерью, и Марк, мой сын от Квинтилии, лишь на половину твой брат. А теперь слушай, я расскажу тебе историю твоего рождения.
Тем не менее, он не сразу заговорил о прошлом, а сидел, глядя туда, где село солнце, и по небу распространялся рассеянный красный свет. Когда он наконец заговорил, то говорил не о моем рождении, а о рискованном положении человека на земле, который должен идти от колыбели к могиле среди такого количества разнообразных опасностей.
— «Среди всех существ на земле, человек беспомощней всех». Кажется, так писал Гомер, и я часто размышлял о мудрости его слов. Кто может утверждать, что является хозяином своей судьбы? Не только жизни людей, но и жизни целых народов формируются случаем. Случайный жест или слово, сказанное в шутку, могут изменить направление истории. Кто мы, как не актеры в пьесе, исполняющие, не понимая того акты драмы, сюжет которой мы не знаем? Одни носят трагическую маску, другие комическую, но мы не выбираем свою роли и не можем сменить их. И вот мы должны играть роль независимо от того, нравится она нам или нет. Что же нам остается, как не принять с возможно большей доблестью предназначенную нам участь и переносить боль и горе, как переносят их актеры, зная, что ничего нельзя избежать и ничего нельзя изменить? И нет нужды укорять богов, когда они посылают нам горе, которое кажется непереносимым, потому что во власти каждого человека уйти из пьесы, если он этого пожелает. Собственной рукой он может открыть двери театра и уйти в лежащую за ними тьму, которую мы называем смертью. Но до этого мига, пусть человек терпит то, что посылают боги.
И он повторил по-гречески любимую цитату стоика Клеанта.
Веди меня, Зевс, и ты веди, Рок.
Что б не назначилось твоей рукой.
Я следую радостно, если даже воля моя
Бунтует, я должен покорно идти.
Философия моего отца сильно отличалась от еврейской. Хотя мой отец был стоиком, здесь он считал, что боги безразлично удалены от дел людей и равнодушны к нашим радостям и страданиям так же как и звезды. И он не считал, что человек может снискать благоволение богов или ждать, что они как-нибудь вмешаются в его дела. Обязанностью человека, как он считал, было терпение, исполнение предназначенной ему роли, а не оплакивание, не пресмыкание, не просьбы о другой судьбе, отличной от предназначенной ему волей случая. И потому как нищий он должен играть роль нищего, а как раб должен нести печаль рабства и не надеяться, не ждать иной судьбы. В этой доктрине есть определенное благородство, хотя я не могу не признать, что это мрачная и неприятная философия. С другой стороны евреи имеют прямо противоположный взгляд на Бога, полагая, что он все время глубоко интересуется их делами и готов, если воззвать к нему, прийти на помощь. Этот взгляд был так же принят последователями рабби Иисуса, которых теперь называют христианами. Они считают Бога своим отцом и советуются с ним по всем вопросам, просят его даровать им блага и оградить от зла. Что касается этой доктрины, то я мог бы сказать, что она утешительна и светла для тех, кто может ее принять, и предлагает людям источник света, который не дает учение стоиков. Но опять-таки я должен признать, что никогда бы не смог принять христианскую концепцию божественного отца, потому что этот отец поступает бесчестно со своими детьми, когда позволяет Нерону сжигать их живыми или зашивать в шкуры диких животных и разрывать на части. Однако я отвлекся для того, чтобы показать сколь различны доктрины стоиков, иудеев и христиан. А теперь позвольте вернуться к рассказу отца.