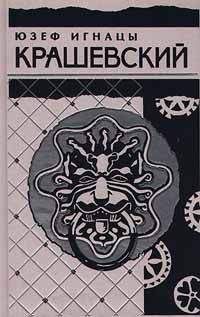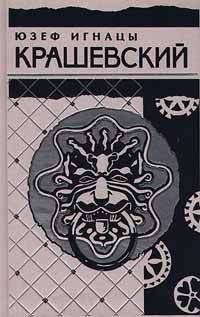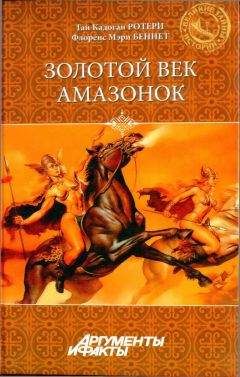Брюль некоторое время, казалось, колебался, но потом взялся за ручку двери и вышел так тихо, что королевич не услыхал этого. Только Сулковский остался при нем; как бы почувствовав это, королевич отнял от глаз платок и оглянулся.
— Где Брюль?
— Он вышел.
— Пускай не уходит, пожалуйста, вели ему быть здесь.
Сулковский хотел было воспротивиться, но не посмел. Он выглянул за двери, что-то шепнул и опять возвратился.
— Нужно мужественно и по-королевски перенести то, что послал Бог, — дружеским голосом сказал Сулковский. — Королям некогда предаваться печали.
Фридрих только рукой махнул.
— Сейчас соберется тайный совет.
— Ступай и председательствуй, а я не в состоянии, — отвечал королевич. — А сюда пускай придет Брюль.
— Но к чему сюда приходить Брюлю? — с упреком проговорил Сулковский.
— На его руках скончался мой король и отец, он принял его последний вздох. Отец мне поручил его, я хочу его видеть, пусть он придет.
— Уже послали за ним, — пожимая плечами и не скрывая своего нетерпения, отвечал Сулковский.
— Не сердись же ради Бога, мой Иозеф, — плаксиво прибавил Фридрих.
В эту минуту колокола всех церквей саксонской столицы наполнили воздух жалобным стоном.
Королевич упал на колени и начал горячо молиться. Его примеру последовал и Сулковский. Один за другим отзывались колокола и сливались в унылый хор, которому вторил шум, доносившийся из города, разбуженного печальною вестью.
В то время, как все это происходило во дворце, за кулисами оперы приготовлялись к назначенной в этот день и нетерпеливо ожидаемой, хотя уже столько раз повторенной "Клеофиде". Пышность, с какою были поставлены лучшие пьесы, в которых иногда выступали на сцену сотни лошадей, верблюдов и бесчисленное множество людей в великолепных костюмах востока, превосходная театральная машинерия привлекали туда столько же зрителей, сколько восхитительный голос синьорины Фаустини Бордони.
Фаустина, первая певица своего времени, прославившаяся победой над столь же известной Куццони, была здесь примадонной в полном значении этого слова: на сцене, за кулисами, и еще гораздо далее. Синьора Бордони хотя носила великое имя первого композитора того времени, могла о нем позабыть, потому что на другой же день указ короля разделил супругов, отправив артиста в классическую землю Италии.
В то время когда карета, везшая Брюля и печальную весть о кончине Августа Сильного, приближалась к замку, Фаустина сидела в своей уборной, устроенной для нее около сцены, и, сбросив с себя дорогую шубу, зевая, собиралась давать приказания.
Примадонна была уже не первой молодости и, несмотря на то, что была итальянкой, которые так скоро отцветают, как скоро и расцветают, она умела сохранить всю силу своего голоса, изящность всей фигуры и красоту лица Юноны, каким наградила ее природа.
Это не было деликатное создание, не эфирное явление, которое, как призрак, рассеивается в тумане и сиянии, но сильная величественная фигура, как бы изваянная из цельного куска мрамора сильным резцом Микельанджело. Безупречная красота соответствовала ее голосу; все как нельзя более гармонировало и подходило к ней, к ее характеру. Голова богини, одним движением брови потрясающей Олимпом, бюст нимфы, рука вакханки, осанка амазонки, нога княжны, волосы черные и густые, как грива арабского коня… В выражении лица, несмотря на его классическую красоту, было более силы и суровости, чем привлекательной женственности. Черные брови, слишком резко очерченные, часто сдвигались, изящные ноздри раздувались гневом, и из-за розовых губок грозно блистали зубки. В ней сразу была видна женщина, привыкшая властвовать и повелевать, которая не страшилась взора короля и метала громы даже на коронованные головы.
Уборная представляла роскошный и уютный уголок: она была вся обита белой с золотом материей, мебель же голубым атласом, а туалет, занавешенный кружевным покрывалом, сиял фарфором и серебром. Шкафы с нарядами были резные, а с потолка свешивалась, словно фарфоровый паук, корзинка с цветами.
Две служанки стояли у дверей, ожидая приказаний. По чертам лиц в них легко можно было узнать итальянок, которые даже не сбросили своего живописного головного убора, прикрепленного серебряными шпильками. Фаустина взглянула на часы, стоящие в углу… бросилась на диван и, не то сидя, не то лежа, играла кистями своего домашнего платья, в котором велела перенести себя в театр.
Служанки стояли молча.
В это время кто-то постучал в двери.
Фаустина даже не пошевелилась, взглянула только и встретила улыбкой показавшееся в дверях лицо красивого молодого мужчины.
Это был сопрано Анджело Монтичелли, который пришел поклониться королеве. В нем тоже с первого же взгляда можно было узнать итальянца; но насколько Фаустина олицетворяла собою энергию и резвость итальянцев, на столько же много было в нем женственной красоты. Молодой, удивительно красивый, с длинными черными, падающими на плечи кудрями, он, казалось, был предназначен для роли влюбленных, для роли богов и любовников. Никакой Аполлон древних, с увлечением играющий на лире, не мог сравняться с ним в красоте. Ему недоставало только надменности и смелости божества; он был уж чересчур покорен и самоунижен.
Он согнулся вдвое, отвешивая поклон Фаустине, которая не переставала играть кистями своего платья и чуть-чуть кивнула ему головой. Ноги его, изогнутые, как бы для танца, даже за кулисами не забывали своих обязанностей.
— Анджело, — воскликнула Фаустина, — ты волочишься за этими противными немками!.. Знаю, знаю!.. Потеряешь голос и молодость. Фи, как можно в немке видеть женщину! Взгляни только на их ноги и руки.
— Синьора, — возразил Анджело, приложив руку к груди и бросая взгляд в зеркало, так как он был немного влюблен в себя, — синьора, это неправда.
— Ты, пожалуй, скажешь, желая оправдать себя, что они ухаживают за тобой? — смеясь, прервала его Фаустина.
— Тоже нет; я тоскую, не находя здесь неба Италии, итальянских лиц, сердца итальянки… Я здесь сохну…
Фаустина взглянула на него и рукой сделала служанкам знак удалиться.
— Ingrato [24], — тихо сказала она, — мы здесь все тебя балуем, а ты еще жалуешься.
Сказав это, она подняла глаза в потолок, зевнула и, казалось, не обращала ни малейшего внимания на пожирающего ее глазами Монтичелли.
— Альбуцци здесь? — спросила она.
— Не знаю.
— Тебе не знать об Альбуцци! Ха, ха, ха!
— Она меня нисколько не интересует.
— В то время, когда ты говоришь со мною. Но я не ревную ни ее, ни твоей Аполлоновой красоты; только ее я терпеть не могу, а тебя, Анджело, ненавижу.
— За что?
— За то, что ты достоин ненависти, за то, что ты кукла, за то, что ты любишь кокетничать! Посмотри на часы и ступай одеваться!
В дверях показалось новое лицо: это был полный, хорошо сложенный, с веселым лицом и быстрыми движениями певец Путтини.
— Мое нижайшее почтение вашему превосходительству! — воскликнул он. — Но, виноват, может быть я прервал дуэт…
И он взглянул на Анджело.
— Мы только на сцене поем дуэты, — возразила Фаустина, засмеявшись и пожав плечами. — Однако вы все сегодня опаздываете. Марш одеваться.
И она приподнялась на диване, Анджело тоже направился к дверям, один Путтини стоял и смеялся.
— Я не опоздаю, трико мое надето, а остальной костюм займет немного времени.
Вдруг с шумом распахнулись двери, и в них с испугом на лице вбежал мужчина в черном платье, в башмаках, чулках и гладком парике; лицо его было круглое, с отдувавшимися щеками, маленьким носом и низким лбом.
Вся его фигура говорила, что случилось что-то необыкновенное. Фаустина, которая всегда боялась огня, пронзительно крикнула:
— Пресвятая Богородица! Спасите! Пожар!
— Где? Где?
Между тем вбежавший стоял словно немой и окаменелый. Это был Клейн, один из музыкантов оркестра, поклонник голоса Фаустины, друг итальянцев и горячий меломан.
Его имя было Иван, как и большей части немцев. Фаустина переделала его на Джиованни и дала ему прозвище Piccolo [25].
— Piccolo, что с тобой? — воскликнула она. — Ты с ума сошел, что ли?
— Король умер! Король Август Великий умер в Варшаве! При этих словах Фаустина пронзительно крикнула и закрыла
глаза рукой; все стояли пораженные. Вбегая, Клейн не запер за собой двери, и, все, кто только был в театре, собрались сюда. Большая часть артистов, которые должны были играть в "Клеофиде", были уже наполовину одеты. Альбуцци вбежала, не успев закрыть открытой груди, ни одеть что-нибудь на самую нижнюю одежду. Красота ее была поразительна даже при Фаустине: все в ней было миниатюрно и грациозно.