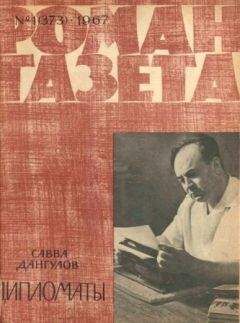— Вообще с посольством?
— Нет, лично с Набоковым, с тем самым Константином Набоковым, братом Владимира Набокова, издателя «Речи». Да это и неважно. Как вы знаете, со смертью Бенкендорфа преемником посла стал Набоков. — Литвинов взглянул на Петра поверх очков, точно хотел убедиться, интересно ли тому все, о чем он сейчас говорит. Однако он прочел в глазах Белодеда и спокойное радушие и внимание. — А дальше произошло то, чего следовало ожидать. — Литвинов подошел близко к окну и чуть пригнулся — там в пролете домов была видна Темза, темная, как город. — Когда Чичерин призвал в свидетели прессу и жестоко атаковал посольство, Набоков применил запрещенный прием: власти не без помощи российского посольства обвинили Чичерина во вмешательстве в английские дела. А об остальном вы знаете: Чичерина бросили в Брикстон, и неизвестно, как долго он просидел бы там, если бы не революция… Теперь представляете состояние Набокова? Чичерин выходит из Брикстона и едет в Петроград, как утверждают газеты, чтобы возглавить иностранное ведомство новой России. У англичан руки связаны, а у Набокова… — Литвинов стоял сейчас перед Белодедом. — Вы помните этот случай в девятьсот седьмом с русским эмигрантом, которого отказались выдать царю шведы? Отказавшись выдать, они предложили бедняге покинуть пределы Швеции, и он тут же сел на корабль, идущий во Францию. Но когда корабль достиг берега спасения, беглеца нашли в каюте бездыханным… Нет рук длиннее, чем у русской политической полиции, — вы это знаете не хуже моего.
— Значит, не надо пересаживаться ни на весельную лодку, ни на «Ньюпор»?
— Не надо, — согласился Литвинов и, сняв очки, взглянул на Белодеда. — Пусть мягкая мебель в салоне и лампа под зеленым абажуром, которая будет стоять в каюте, вас не обезоруживают: это будет самая опасная ваша поездка…
Белодед молчал: так вот почему рядом с Чичериным ехал на родину он, Петр! И волнение, тревожное и все-таки радостное, объяло Белодеда. Было точно такое состояние (оказывается, оно повторяется!), как в ту далекую августовскую полночь девятьсот одиннадцатого, когда он спрыгнул с каменистого черноморского берега в лодку, уперся веслом в бурую громаду прибрежной скалы и, оттолкнувшись, налег на весла: впереди было море, большое море, день и ночь безвестного пути.
К главному входу в Брикстон на машине не пробиться — фронт автомобилей преградил путь.
— Зрелище более чем примечательное: Великобритания великодушно дарует свободу русскому борцу, — смеется Литвинов. — Герцен непростительно ошибался, когда говорил, что Англия плохая помощница революции.
Их встречает чиновник Форейн-оффис — молодой человек в щегольском пальто с округлыми лацканами. Он приподнимает шляпу и обнаруживает пробор, который тщательно разделил на темени рыжеватые, слегка вьющиеся волосы.
— Мне надо еще десять минут, только десять, — произносит молодой англичанин по-русски.
Литвинов поправляет очки, крупные губы выражают и хмурое нетерпение, и озабоченность.
— Я готов ждать и пятнадцать, мистер Тейлор, но мистеру Чичерину ждать труднее.
Тот, кого Литвинов назвал Тейлором, ушел, а Петр продолжал смотреть на Литвинова. «Откуда этот мистер Тейлор и откуда его русский язык?» — спрашивал взгляд Белодеда.
— Вы же знаете, я давал уроки русского языка, — сказал Литвинов, желая лаконичной фразой ответить на все вопросы Белодеда.
— Да, но я не знал, что среди ваших учеников были английские дипломаты.
Литвинов рассмеялся.
— Были.
А молодой клерк, казалось, взвил полами модного пальто старую пыль Брикстона — все, что от природы было безгласным, загудело, застучало, загремело, изображая величайший пыл и рвение.
Потом все стихло и наступила тишина. Белодед опять увидел улыбающегося клерка: он весел, как прежде, только лицо покраснело и волосы стали влажными, — и игра требует сил.
— Разрешение получено. Все как нельзя лучше. — Он улыбался так, будто стоял не посреди каменного леса, а на поляне, освещенной солнцем.
Они садятся на деревянную скамью и ждут. Света лампы не хватает на весь коридор, и дальняя стена уходит в полутьму. Чичерин должен прийти оттуда. Вдруг становится неправдоподобно тихо. Тишина камня, железа сомкнутых губ… В окно, окованное железом видна ветряная мельница. Это кажется неправдоподобным тюрьма и мельница. Когда возникает ветер, крылья мельницы движутся. Наверно, эту мельницу видел из тюремного окна и Чичерин. Она такая же, как на холмистых русских полях: широкоплечая, чуть приземистая, с распростертыми руками крыльев. Он словно примчалась сюда из России, из русской юности, из русских сказок, чтобы сказать, но бессмертна и необорима жизнь.
Петр слышит: в глубине каменного дома хлопает дверь, хлопает так, будто ее рвануло и ударило ветром.
Петру кажется: человек идет один. Словно перед ним открыли все двенадцать дверей, обитых железом, и сказали: иди вот этой каменной тропой и не сворачивай, здесь все дороги прямые — и на волю, и в неволю. И человек пошел: он идет не спеша, спокойным и усталым шагом, идти нелегко, но он знает, что дойдет.
Чичерин появляется из сумерек с матово-бледным лицом, и только глаза глядят весело.
— Ну вот, я бак будто бы на свободе, — улыбается Чичерин, но Петру его улыбка кажется печальной. Рука у него легкая, до обидного мягкая, хотелось бы, чтобы она была и тяжелее и тверже.
Чичерин выходит на улицу и снимает шляпу.
— Какое счастье увидеть над головой небо. — Он оглядывается вокруг. — По-моему, будет снег, вон как побелело небо… — Он встречается взглядом с мельницей и улыбается. — Почти русская картина, не правда ли? — спрашивает он, а Петр думает: «Ну конечно же, он смотрел на эту мельницу из тюремного окна и думал о России, обязательно думал о России».
«Металлуржик» устремляется вперед, и автомобили, стоящие перед тюрьмой, спешат вслед.
Лондонцы, запрудившие улицы, выходят к краю тротуара, они обескуражены. В самом деле, процессия более чем странная: какой доблестью завоевал старенький «металлуржик» честь возглавлять процессию лимузинов?
А «металлуржик» исправно гремит по камням Лондона, неторопливо пересчитывая их, — все камин отмечены, ни один не пропущен.
Петр не сводит глаз с Чичерина: в его речи, в манере говорить есть холодноватая складность слова, породистость фразы, но нет свойственной интеллигентам того круга (никуда не денешься — для Петра Чичерин дворянин) покровительственной ласковости, которая почти всегда обидна.
А небо над городом посуровело, и по брезентовому тенту машины застучала снежная крупа, мелкая и злая. Потом пришел ветер, а вместе с ним и крупный снег — началась вьюга.
— Россия!.. — как показалось Петру, восторженно произнес Чичерин и, застеснявшись, заговорил спокойнее, точно оправдываясь: — Вот так же в далеком Карауле, на Тамбовщине, встанет снежная туча и застит солнце, а к вечеру закрутит пурга все гуще и круче. А утром сугробы, солнце и сугробы… И синие следы саней — кто-то уже проехал по первопутку.
А «металлуржик» идет через Темзу, достигает Ооклей-сквер, где Чичерин снимает мансарду.
— Слушайте меня внимательно и следуйте за мной, — говорит Чичерин и храбро скрывается во тьме дома. — Предупреждаю: лестница длинная и считать ступени надо точно, иначе попадете в квартиру хозяев. Итак, двадцать семь ступеней. — Чичерин идет впереди. Петру слышно, как он дышит и, кажется, считает. — Все, двадцать семь, — говорит он стесненным голосом: мансарда а самом небе. — Теперь поворачивайте налево — вот и дверь.
Скрипнула дверь, пахнуло холодом и книжной пылью.
— А света нет, — повернул выключатель, Чичерин. — Где-то была лампа…
Он нащупывает стекло керосиновой лампы — это слышно по стуку запонки о стекло.
— Спички?
В синеватом пламени видна темная с рыжинкой борода Чичерина и губы. Быстро сохнет запотевшее стекло, свет становится ярче, заполняя всю комнату. Лежит раскрытая книга. Отстоялся недопитый чай. В стакане с желтой водой безнадежно высох стебелек ромашки, и стол припудрен ярко-рыжей пылью. Поверх начатого листа бумага — ручка, и у самого кончика пера запеклось на бумаге чернильное озерцо: очевидно, все пресеклось на нетерпеливом вздохе, на печально-раздумчивом слове, на движении руки, которая повисла над бумагой, — вошли, не постучав.
— Уцелел мой шесток, не растревожился, не обломился, — оглядел Чичерин комнату. — Теперь вижу: немного охотников жить по соседству с богом!.. — Он взглянул в окно, за которым бушует ненастье. — Как на маяке… где-нибудь на Гогланде в Балтике, а?.. Где-то тут у меня была коробка сахарного печенья. — Он раскрыл нижние дверцы книжного шкафа — коробки не было, снял с полки стопу словарей (там у него был тайник) — такой же результат, на минуту прервал поиски, раздумывая, а потом стремглав, едва ли не ликуя, устремился к тумбочке у кровати, но и там коробки не оказалось.