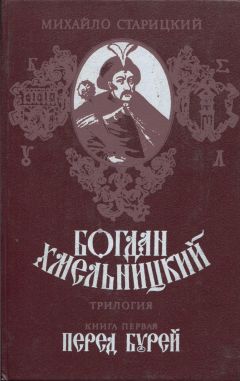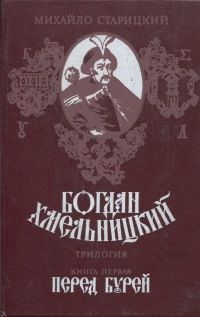— Гевулт! — затряс пейсами Шмуль.
— Та дай боже пану Хмелю век долгий; не обманул: и грунты оказались добрячими, и сам он хорошим козаком.
Кривонос толкнул локтем Чарноту и подмигнул одним глазом соседу.
— Такого пана поищи, вот что! — поддержал старик. — Живет наш Хмель с нами, подсусидками[29], так дай боже, чтобы другой старшина хоть в половину так обходился: пала ли у тебя шкапа — возьми господскую на отработок, нет ли молока деткам — иди в панский двор смело, к Ганне.
— Уж эта Ганна! — засмеялся лупоглазый с бельмом. — Просто идешь, как в свои коморы, и баста!
— Заболеет ли кто на хуторе — уже она там: ночь ли, день... — продолжал старик.
— На что и знахарки — такая печальница-упадница, — кивнули головами и другие селяне.
— Антик душа! — мотнул бородой даже Шмуль и побежал в свою половину к Ривке, куда заходили и бабы.
— Кто это — Ганна, человече добрый? — отозвался с дальнего угла Кривонос. — Жинка этому вашему Хмелю?
— Нет, козаче, не жинка, — ответил старик, — а родичка будет, сестра хорунжего Василя Золотаренка, коли знаешь, — из Золотарева, — вон что на Цыбулевке, мили за четыре отсюда. Она еще панна, живет тут при семье, детей писарских досматривает, господарюет, а жинка Богданова, дочка Сомка, без ног лежит уже почитай лет пять: после родов перепугалась татар.
— Вон оно что! — протянул Кривонос.
— Что же этот пан писарь большие чинши берет за божью- то, предковскую землю? — вмешался в разговор и Чарнота, прищурив лукаво глаза.
— Какие там чинши?! Эт! — махнул рукою Кожушок.
— Грех слова сказать, — закурил люльку пучеглазый и молодцевато плюнул углом рта далеко в сторону. — Двенадцать лет ни снопа, ни гроша не давали, а теперь платим десятину, да и то в неурожайные годы льгота.
— Верно, — подхватил и Кожушок, заерзав на скамейке и подергивая плечами. — И бей меня божья сила, коли на его земли не переселятся со всех околиц, потому — приволье.
— По-божьему, по-божьему, козаче, — мотнул головой и старик, отдирая зубами кожку с хвоста копченой тарани. — Такой чинш можно век целый платить, не почешешься. Ведь прийми в резон, что лес на постройки отпустил даром.
— А он, небойсь, заплатил за него, что ли? — заметил злобно Кривонос.
— Хотя бы не заплатил, так заслужил — и батько его, Михайло, и сам он! — старик бросил на пол обглоданный хвостик и утер полою усы. — А это, брате козаче, все равно: уж не даром же, а за послуги отмежевал ему покойный Данилович{45} такой ласый кусок. А нашему пану Богдану еще король подарил все земли за Тясмином — за три дня на коне не объедешь.
— Про большие услуги Хмеля слыхали, и следует за них наградить его; только вот что мне чудно, что благодарят-то чужим добром...
— Что-то мудрено, — уставился на Кривоноса старик.
— На догад бураков, чтобы дали капусты, — захохотал пучеглазый, а за ним и другие. — Только вот не к нашему батьку речь: таких панов дидычей подавай нам хоть копу, — и заступник он наш, и советчик... А что земля, так ее, вольной, без краю!
— Вот оно что! — протянул и старик. — Только как ни прикинь, — своя ли старшина наделила, взял ли сам займанщину, а коли уже приложил к земле руки, то, значит, она твоя.
— Так, стало быть, и ляхи, эти чертовы королята, — сверкнул глазами Чарнота, — коли рассеялись на наших родовых землях и приложили к ним свои плети, так уже и дидычами-властителями стали? Увидите, сколько вольных этих земель паны вам оставят.
— Не об них речь...
— То-то, что не об них! — ударил Кривонос кулаком по столу так, что стаканы все подскочили с жалобным звоном.
— Стой, разольешь! — подхватил с испугом Чарнота медную посудину и присунул к себе под защиту.
— Вот это-то и горько, и больно, — зарычал Кривонос, — что всяк из вас, как только добрался до теплой печи да до бабы, так и плюнул сейчас на весь свет: что ему родной край? «Моя хата скраю — ничего не знаю!» А вот увидите скоро, как ваша хата скраю! Легко смотрели, когда сюда исподволь заползали вороги наши клятые и по вере, и по пыхе, и по панству, — прошипел Кривонос, — а теперь вот, как они раскинули кругом паутину да вбились в силу, облопались нашего добра, — так и старых господарей вон... и ничего не поделаешь! Эх! — заскрежетал он зубами и отвернулся.
Все как будто сконфузились и притихли.
— Что и толковать, козаче, — тихо отозвался, наконец, старик, — вороги-то они наши точно, да как справиться?
— А вот как, — схватился Чарнота и взял стоявший в углу веник, — смотри, старина, по прутику-то как легче ломается... хрусь да хрусь! А ну-ка, попробуй переломить все разом... а? То-то! — швырнул он веник под печку.
Почесали затылки поселяне и одобрительно покачали головами.
— Хе-хе-хе! Ловко! — почесал затылок себе лупоглазый. — Только вот, пока мы надумаемся собираться в веник, так нас поодиночке и переломают.
— И добре сделают! — зашипел яростно Кривонос. — Так и след! Когда другие подставляли за вас свои головы, так вы сидели за печкой или возились с бабьем, — ну, а теперь и танцуйте! Дождетесь, гречкосеи, что вас самих запрягут паны в плуг... Помните мое слово, дождетесь!
— Храни бог, козаче, — встряхнул седым оселедцем дед. — Оно точно, что паны укореняются в нашей земле... и про наших даже слух идет, а про ляхов и толковать нечего... да что против них поделаешь? За ними сила, а сила, говорят, солому ломит. Конечно, шановный добродий прав, что кабы все разом супротив этой силы... Да, выходит, слаб человек: и до земли его тянет, и до своего угла, и до покою... Потому-то и сидит в закутку, пока не доймут, не дошкулят...
— Эх, народ! — ударил Кривонос по столу кухлем. — А еще христиане! Братья гибнут... враг сатанеет... зверем пекельным стает, над всем издевается, знущается, всех терзает, а они... — козак отвернулся, склонил на руку голову и начал дышать тяжело.
Все замолчали, подавленные правдой этих слов.
— Ой, так, так, — засуетился после долгой паузы Кожушок, — что и говорить — подло: всяк вот только за себя...
— Да что ж ты, брат, против силы? — уставился на Кожушка пучеглазый. — Паны со всех сторон так и лезут, так и прут...
— Что-о?! — вскрикнул задорно Чарнота. — А вот, хоть бы по прутику ломать эту силу: завелся панок — трах! — и нема... проползла гадина — трах! — и чертма!
— Ага, — переглянулись значительно поселяне, — этак- то... оно конечно... способ добрячий.
— Да мы не за панов, чтоб им пусто было, — начал было пучеглазый, но, увидя входившего жида, замялся. — А мы за своего Хмеля, потому что, козаче, душа человек одним словом — друзяка, и шабаш!
— Так что на него и положиться можно? — спросил Чарнота, подмигивая Кривоносу.
— Как на себя, как на свою руку! — ответили все.
— Ну, а где же он теперь, дома?
— Кажись, нет, — отозвался Кожушок.
— А куда же посунул?
— По войсковым, верно, делам.
— Ой ли?
— Да разно говорят... — замялся, косясь на деда, пучеглазый.
— Мало ли что брешут, не переслушаешь, — нахмурился дед, — а что дома нет, так правда: я сегодня сам был во дворе.
— Неудача, — шепнул Кривоносу Чарнота.
— Благоденственного жития и мирного пребывания, — загремела вдруг у дверей октава и заставила всех обернуться.
У порога стоял в длинной свите, подпоясанный ремнем, среднего роста, но атлетического сложения новый субъект, очевидно, из причта; красное угреватое лицо его было обрамлено всклокоченной бородой грязно-красного цвета, а на голове торчала целая копна рыжих волос; большие уши и навыкат зеленые глаза придавали его физиономии выражение филина.
— А! Звонарь из Золотарева! Чаркодзвон! Вепредав! — послышались радостные восклицания из кружка поселян.
— Аз есмь! — подвинулся грузно к своим знакомым звонарь и, поздоровавшись, провозгласил громогласно: — Жажду!
— Гей, Шмуле, — засуетился Кожушок, — наливай приятелю в кухоль полкварты.
Шмуль прибежал сразу на зов и поднес с приветливою улыбкой звонарю требуемую порцию.
— Во здравие и во чревоугодие, — произнес тот торжественно и, не переводя духу, выпил весь кухоль до дна.
— Эх, важно пьет, братцы, — не удержался от восторга Чарнота, — чтоб мне на том свете и корца меду не нюхать, если не важно; таких добрых пияков поискать теперь! Почоломкаемся, дяче; с таким приятелем любо! — встал он и, обняв звонаря, поцеловался накрест с ним трижды.