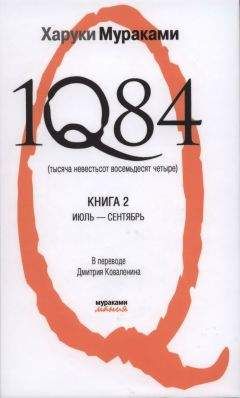27 апреля после вечерни Люба Кадашева вышла во дворцовый сад и, бродя по дорожкам, дошла почти до самого дворца. Здесь было одно из крылец, ведших в покои царя.
Время от времени на крыльце появлялся кто-нибудь из постоянных обитателей дворца и проходил в маленькую калитку, выходившую на большой двор. Этот выход через сад очень сокращал дорогу и в летнее время им обыкновенно пользовались.
Все было тихо, только птицы щебетали в зеленых, недавно распустившихся древесных ветках, да с черемухи осыпался белый цвет.
Люба присела на скамеечку, поставленную под раскидистым деревом, и просидела так несколько минут, вдыхая в себя весенний душистый воздух и разбираясь в различных тревожных мыслях: время было смутное — неведомо что завтрашний день готовил.
Вдруг в нескольких шагах от нее, перед дворцовым крыльцом, услыхала она громкий, тревожный голос.
— Скорей, скорей, — говорил кто-то, — что за народ такой! Некогда тут мешкать, когда царь кончается!..
Эти слова наполнили Любу ужасом. Она быстро вскочила со скамейки и побежала в терем, прямо к царевне Софье.
— Государыня, матушка царевна, была я в саду и сейчас слышала… во дворце говорят, будто царю государю плохо… будто кончается!
Софья побледнела, быстро накинула на себя летник и, задыхаясь от волнения, побежала во дворец, в покои брата.
Федору, действительно, было очень плохо, пришел смертный час его. Он только что перед этим исповедывался и приобщался Святых Тайн.
Царица Марфа сидела у изголовья его кровати, горько плакала и громко всхлипывала.
Боярыня Хитрая находилась тут же; больше никого не было. Царь приказал всем выйти и оставить его только с женою и с мамкой.
Царевна Софья, войдя в покой, на мгновение остановилась и выразительно взглянула на Хитрую.
Та поняла ее взгляд, в свою очередь ответила ей многозначительным подмигиванием.
Боярыня Хитрая в это время была уже семидесятилетняя старуха, хотя необыкновенно бодрая. Она всю жизнь провела во дворце, знала все тайны царской семьи, очень часто была центром всех теремных интриг, пользовалась всеобщим уважением и большим влиянием. Ее называли постницей, и она, действительно, на людях представлялась самой ревностной християнкой: не только что соблюдала все посты, но даже иногда по нескольку дней морила себя голодом. Поговаривали одно время, что она носит вериги, только никто этих вериг не видал, и скоро толки о них прекратились.
Боярыня Хитрая носила кличку по шерсти; она понимала, что под видом постницы и смиренницы ей несравненно легче вести свои интриги и обделывать всевозможные дела, не рискуя своей репутацией и ничего не теряя в уважении ближних.
Ее страстью было сеять всюду раздоры, поднимать всякие дрязги, раздувать мелкие недоразумения в крупные обиды, ссоры, неприятности. Только сама она постоянно из всего выходила с чистыми руками, как будто дело вовсе не ее касалось: заварит кашу — а другие расхлебывай, сама же Хитрая в стороне, глаза опустит, четки перебирает, губы шепчут молитву, и толкует она мерным голосом встречному и поперечному о христианском смирении, о любви к ближнему.
В последние годы своим хитрым, злым языком она как могла только раздувала ненависть царевен к Наталье Кирилловне и ее детям. Раздувала ненависть к мачехе и в царе Федоре, но в то же время наведывалась и ко вдовствующей царице и представлялась ее другом. В душе она ее ненавидела и теперь, в предсмертный час царя Федора, конечно, пуще всего боялась ее торжества. Только видела она, что чересчур трудно заставить умирающего назначить себе преемником царевича Ивана; ей нужно было так действовать, чтобы при всяких обстоятельствах, при торжестве той или другой партии, самой ничего не потерять и остаться на высоте своего положения.
Любимая и почитаемая Федором, она хитро и осторожно в эти последние дни не раз намекали ему о царевиче Иване, но, видя, что он не поддается, замолкала.
«Пускай теперь Софья с ним потолкует, может чего и добьется, — подумала Хитрая, — а мне как бы нибудь удалить Марфу, чтобы не мешала».
— Ах, матушка моя, голубушка, — проговорила Хитрая, подходя к молодой царице, — что это так ты убиваешься, погляди — на тебе лица нет, совсем изведешь себя. Ну, Бог милостив, государю полегчает, поправится. Да перестань же, успокойся!..
Но царица Марфа залилась еще пуще слезами и упала головою на подушку, сжимая в своих горячих полных руках сухую, бледную и слабо вздрагивавшую руку Федора.
— Да, Петровна правду сказала, — прошептал царь, с трудом открывая глаза и стараясь улыбнуться. — Не плачь, Марфуша, мне гораздо лучше… Вот уж совсем не больно! Успокойся, поди отдохни… Засни немного — ведь ты всю ночь глаз не сомкнула — может, и мне соснуть удастся… Поди, отдохни…
Хитрая опять бросила в сторону Софьи значительный взгляд и сказала:
— И впрямь, государыня, дай-ка я провожу тебя. Приляжешь тут же, рядом в покое, так тебе все и слышно будет, коли государь позовет тебя. Пойдем, пойдем… А то ты его только мучаешь своими слезами, а что толку-то? — шепнула она на ухо царице. Успокойся, нельзя ведь так, неравно ему от этих твоих слез и мучений, на тебя глядя, еще тяжелее сделается…
Бедная царица при последних словах Хитрой оставила руку Федора и, поддерживаемая старухой, покорно вышла из царской опочивальни.
На ее место к постели брата приблизилась Софья.
— Что, Федя? Али худо! — прошептала она, склоняясь над ним.
— Ох, худо, сестрица! Марфушу-то вот успокаивал, а чего уж тут, совсем смерть пришла! Умираю, вряд ли доживу до ночи, сам чувствую, да и дохтур надежды не имеет. Приходил он сюда с час тому времени, так я заставил его сказать мне правду.
Федор остановился, перевел дыхание и затем начал снова тихим голосом:
«Что ж, сестрица… Я не боюсь смерти, давно приготовился… Вас всех только жалко… Да что… Суждено, видно, ничего не поделаешь… Ох, страшно подумать, времена какие!.. Дел сколько… И то нужно… И другое. И одно не в порядке, и другое перестройки требует… Сама знаешь, великое государство… Да что тут у вас без меня будет — подумать страшно…»
Софья хотела говорить, но он начал шептать снова, и она слушала.
— Ах, зачем это вы уговорили меня опять жениться?.. Вот послушался вас, загубил век девичий. Не женись я, Марфуша нашла бы себе мужа здорового, прожила бы счастливо, детей народила бы, выняньчила, воспитала… а теперь что?.. Как она останется?
— Братец, да мы ли виноваты, — проговорила Софья, — все надеялись, что поправишься ты, да подаришь нам наследника по себе. Сам знаешь… Ведь и тебе и нам дорога Россия, так о будущем ее тоже думали.
— Ах, сестра! — с печальной, слабой улыбкой опять заговорил Федор. — Да что ж, хоть бы и в живых остался сын мой или другой родился бы, так что ж, еще хуже того было бы теперь, еще больше смут и раздоров… Есть по мне наследник…
Он не договорил и с глухим стоном схватился за грудь.
— Что? Что с тобой? — испуганно спросила Софья. Но он уж успокоился.
— Нет, ничего! — ответил он.
— Ты говоришь, братец, есть по тебе наследник, — сказала царевна, — да конечно, брат Иванушко.
— Нет, не Иванушко… — тихим, но твердым голосом перебил ее царь. — Не Иванушко — что себя и других морочить — он-то еще плоше моего… сама знаешь… грешно и стыдно мне оставлять ему государство!.. Грешно и стыдно и тебе, сестра, твердить мне об этом… Другой брат есть у нас… тот растет здоровый и разумный… о нем и отец думал, да и я должен ему оставить государство. Вырастет он и — чует сердце мое — будет царем добрым и славным, не таким как я, по глупому моему разуму, по слабости моей телесной и по грехам моим великим, был для земли русской… Только вот что будет, пока вырастет? Эта мысль отравляет мои последние минуты, и ничем я не могу отогнать ее… Ох, сестра, тут как ни думай — страшно!..
У Софьи сердце так билось, что делалось больно. Глаза ее то загорались ярким пламенем, то померкали. Она чувствовала, как холодеют от волнения ее руки, чувствовала, как сохнет во рту — пришла трудная минута, страшная минута! Она видит, что брату плохо, того и жди умрет. Нет, нельзя допустить, чтобы он назначил преемником себе Петра… Нельзя, нужно уговорить, нужно уговорить его… И она упала на пол перед кроватью Федора и простерла к нему дрожащие руки.
— Брат! Именем Бога заклинаю тебя, выслушай меня и обрати внимание на слова мои. Ты сам знаешь, что всем сердцем моим люблю я нашу родину и желаю ей чести и славы… Не из-за какой-нибудь злобы, не по ненависти и коварству говорю я тебе, не бери греха на душу, не назначай себе преемником ребенка, не отдавай Россию Нарышкиным!.. Уж не о том забочусь, не о том думаю, что погубят они всех нас, родных твоих — что о нас тут толковать, пускай мы пропадем, да ведь с нами пропадет и Россия!.. Или ты не знаешь этих Нарышкиных? Людишки они темные да грязные, растащут, разнесут по клочкам твое наследие… Пускай Петр разумный ребенок, да пока-то еще вырастет. Брат, смилуйся над нами, смилуйся над Россией — оставь престол Иванушке… Мы все, рук не покладая, работать будем, твои дела продолжать станем… Брат, вспомни, ведь немало мы с тобой толковали о делах государства, о будущем, о том, к чему нужно стремиться, что нужно делать… Брат, вспомни, что ты сам хвалил мои мысли, ты сам видел, что и твои я понимаю! Клянусь тебе Богом, клянусь тебе памятью родителей, всю душу мою положить в одно дело… Брат, сжалься над нами!