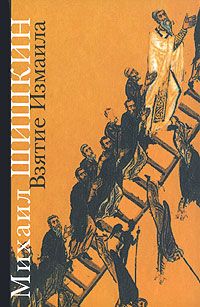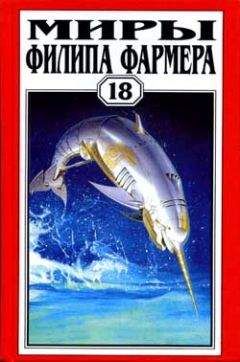— Я, когда все это произошло, жить не мог. А потом мне объяснили, что так должно быть. Просто закон такой — как яблоком по лбу. С каждым в жизни должно что-то произойти. И с вами произойдет. И со всеми. Просто нужно знать. А с женой мы после этого разошлись. Наверно, это должно было нас, наоборот, сблизить. А вот как получилось. Может, он только нас вместе и держал.
На рынке стоял гвалт, там везде что-то жарилось, парилось, кипело. Я смотрела на этого человека, у которого по нелепости так чудовищно погиб самый дорогой человек, как он азартно торгуется, хохочет, хлопает рыбачек по плечу — и не понимала, что это? Очерствелость души? Сила жизни? Или сила жизни и есть очерствелость души? И все не лезло у меня из головы его яблоко по лбу.
Dimanche и Mardi gras — две высшие стадии карнавального опьянения. Не ходите на Корсо, если у вас ненадежны локти, мрачно на душе, щеголеват костюм, а на голове шляпа — попадете в давку, вас выпачкают всеми красками и если не собьют с ног, то непременно нахлобучат вашу шляпу по уши. Можно выбрать безопасное место на террасе около префектуры или заплатить за окно или балкон. Карнавал квакает лягушками, размахивает гигантскими крыльями летучих мышей, кувыркается обезьянами, садится на козлы бородатым кучером в дамском бальном костюме, сыплет цветами, швыряет мучными конфетами пополам с горохом. Кто является только поглазеть, заражается, покупает цветов, конфет и, войдя в азарт, еще очень досадует, что конфеты не камни, чтобы бросить их в одну рожу, приветливо улыбнувшуюся с балкона.
Ну вот, все и произошло. Случилось то, что и должно было случиться. Милый, несчастный, славный мой Николай Александрович! Все, что вышло, поверьте мне, к лучшему! Знала, что вы давно должны были уехать и не уезжали, все откладывали, находили тысячу причин переменить билет. Знала, что вы придете и скажете то, что сказали. Просто и внятно, хоть и покраснели, как мальчик. Конечно, любимый мой человек, вы тысячу раз правы, и было бы просто чудесно, просто замечательно, просто восхитительно положить вам голову на плечо, прижаться к вам, обхватить сильно-сильно и больше никогда не отпускать. Да что же вы, глупый мой, спрашиваете еще, хочу ли я быть вашей женой, какого еще вы ждете ответа? И в ту минуту, когда я ответила вам «нет», в ту самую секунду вдруг так пронзительно захотелось умереть. Послушай, любимый мой, ты все-все когда-нибудь поймешь. Есть вещи, которые и существуют только для того, чтобы быть понятыми потом. И когда ты все поймешь, ты простишь. Милый мой, мы прекрасно знаем с тобой одну истину, которая единственная удерживает этот мир. Все сущее держится на ней, как на соломинке: что бы ни произошло, самое важное — не терять достоинства. И вот этот экзамен, может быть, главный из всех, которые нам пришлось сдавать, мы выдержали. Ты стоял у окна. Там валялась на подоконнике точилка, ты взял ее, вытянул из стакана с карандашами самый тупой и принялся точить. Я поправляла цветы в вазе. Зачем карандаш, при чем тут цветы? Я стала болтать что-то о карнавале, какую-то несусветную чушь, лишь бы заглушить молчание. Ты все был занят точилкой — у карандаша то и дело ломался грифель. Потом сказал, не глядя на меня, что завтра уедешь утренним поездом. Я ответила как ни в чем не бывало, что приду тебя провожать. Все вышло хорошо, как нельзя лучше, как и должно было быть, только в самом конце тебя чуть подвели нервы — хлопнул дверью так, что зазвенела люстра.
Ты уедешь завтрашним поездом, а я буду стоять на платформе и махать тебе, улыбаясь, щурясь на солнце, легко, беззаботно. Потому что и я, единственный мой, права, хоть у меня и не так много аргументов. Даже совсем немного. А вернее, всего-навсего только один: что за радость жениться на гниющем заживо желудке, правда? А та, в зеркале, когда ты ушел, сперва сидела на кровати долго-долго. Из окна доносились звуки оркестров, мешавших друг другу, крики, смех, вопли. Потом, спокойная, уверенная в себе, слегка голодная, она стала одеваться. Примеряла платья, все на какую-то толстуху. Расчесывала волосы. Пудрилась. Подводила ресницы. Оставила по капле духов за ушами, на шее, на груди. Закрыв окно, на случай дождя, она вышла из зеркала и отправилась на Корсо, туда, где бесился карнавал — ее стиснули в давке, измазали волосы взбитыми сливками, ткнули охапкой цветов в лицо. Она выхватила у кого-то букет и сама стала хлестать им направо и налево. Толпа вышвырнула ее к какому-то ресторанчику. Она, смеясь, заказала жаркое, не глядя, просто ткнув пальцем в меню, потом еще полдюжины блюд. Стала пить вино и есть все подряд, запихивая в рот куски пальцами.
Первый раз ее вывернуло уже в ресторане. Она еле дошла до гостиницы. Не хватило сил добраться до номера, и она присела у стены в коридоре. Я как раз возвращался от близняшек не солоно хлебавши, в кармане бутылка коньяка, злой, да какой там злой, просто в бешенстве. Думаю, напьюсь один — и весь карнавал. А когда я в таком состоянии — ты же меня знаешь, — остановиться уже не могу. Помнишь, как я чуть не вышвырнул тогда поляка-хама из поезда на полном ходу? И вот слушай приключение. Смотрю, на этаже сидит на корточках одна тут особа, я тебе про нее, кажется, писал, местное чучело, посмешище сезона. С невероятной шляпой, над которой умирает со смеху весь табльдот.
Подхожу, спрашиваю:
— Вам помочь?
Мычит что-то, мотает головой.
Я ей снова:
— Да что с вами? Вы плохо себя чувствуете? Может быть, вызвать врача?
А она в ответ блевать, еле отскочил.
Ну, думаю, не оставлять же пьяную женщину без помощи. Под мышки и к себе в номер. Она и не сопротивляется, тащу ее, как куль.
Вокруг нее увивался тут один мухолов, но, видно, без натиска. Я ее на кровать и давай отпаивать коньяком.
Ну, брат, дальше можешь сам себе все представить! Пожалел только, что тебя не было (не забыл еще волоокую хористочку с ниточкой в пупке?).
Обожаю все эти пьяные слезы, этот осовелый скользящий взгляд, это бессмысленное мычание, это освобожденное бесстыжие!
Она бормочет что-то нечленораздельное, а я ее раком.
P.S. Все мы умрем, брат. Главное — умереть молодцом! Надо загребать жизнь обеими руками.
Слушай, чудо мое, странную сказку. Случилось все это тысячу лет назад, когда тебя и в помине не было.
Никому не рассказывал, носил в себе. Тебе, доченька, расскажу, слушай. Ты ведь у меня умница — ничего не поймешь.
Твой папа был тогда совсем другим, у него самого еще были живы мама и папа, а он был юношей. Юноша — это такое существо с жидкой бородкой, которое играет в крокет и кегли, руководит фантами и говорит дерзости девицам. А потом ночью корпит над actio hypothecria и pignoratitia. И вот одним утром, когда снег за окном спешил к трем вокзалам, он отправился на экзамен — всю ночь готовился, проспал и теперь очень торопился, прямо бежал по лестнице, а внизу чуть не упал, поскользнулся на заледенелых ступенях, это дворник носил воду и расплескал. И в дверях юноша столкнулся нос к носу с заснеженным почтальоном. Тот принес ему телеграмму. Телеграмму юноша открыл уже в трамвае. В ней его отец сообщал без точек и запятых, что мама юноши скоропостижно скончалась и что похороны будут тогда-то. «По возможности, — телеграфировал отец, — приезжай». Юноша доехал до университета и машинально, плохо соображая, что происходит, разделся в гардеробе и поднялся по лестнице до аудитории. Там его окликнули и сказали, что о нем уже спрашивали. Он вошел в экзаменационный зал, и на него набросился профессор романист Платонов, грузный и рыхлый — когда поднимался на кафедру, она трещала под ним. Юноша был его любимым студентом.
— Ну, где же вы пропадаете? Берите билет! Берите, берите, что вы тут перед нами как каменная баба из кургана!
Юноша взял с алой бархатной скатерти бумажку. Ему достался конек профессора — отличие dominium от possessio.
— Вот и чудесно! — обрадовался Платонов. — Я уже имел удовольствие с вами, молодой человек, дискутировать по этому вопросу. Отвечайте-ка без подготовки, ex tempore!
За длинным экзаменационным столом сидели какие-то седобородые старцы, которых юноша должен был поразить своими способностями, Державины русского права, дышавшие на ладан.
Платонов заерзал на заскрипевшем под ним стуле, торжествующе поглядывая на коллег, мол, сейчас увидите, этот покажет!
Юноша хотел что-то сказать, объясниться, показать телеграмму, но вдруг почувствовал, что не может выдавить из себя ни слова, будто кто-то сжал ему челюсти.
Платонов потирал руки, как бы предвкушая удовольствие, его большое тело еле помещалось за столом. Он подбадривал хрипловатым баском:
— Ну же, молодой человек, с высоты этих пирамид на вас смотрят тридцать веков! — и сам первый заразительно засмеялся своей шутке, пихая в бок то мумию справа, то слева.
Впервые этот обожаемый юношей умница показался ему никчемным дурашливым стариком, а его dominium с possessio каким-то бредом.