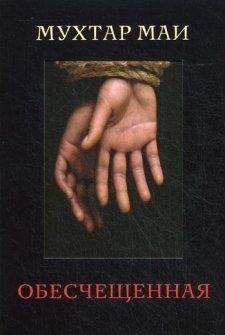— Да, тело у тебя горячее. Что у тебя болит? — спросила Улжан. Поворачиваясь на бок, Абай почувствовал острую боль а висках. Он сказал об этом.
Пока он спал. Улжан успела рассказать свекрови обо всем, что произошло с мальчиком. Обе решили: «Сильно испугался — вот и заболел!» Зере бранила Жиренше и всех аксакалов и сердито плевала на землю.
Абай сразу заметил, что им обеим все известно.
«Отец!.. Отец!..»— снова молнией пронеслось в его мозгу. Он тяжело вздохнул, провел рукою по груди и сказал едва слышно:
— Какой он жестокий! Какой бессердечный!..
В первый раз мальчик высказал вслух свои мысли об отце— мысли, которые до того теснились в его мозгу бессвязными, полуосознанными обрывками.
Бабушка не расслышала его. А Улжан сидела молча и ничего не ответила сыну. Тогда свекровь стала подталкивать ее коленом: скажи, мол, что говорит Абай.
— Об отце вспомнил. Говорит — жестокий, почему не сжалился, — ответила та ей на ухо.
Зере вздохнула и, не отрывая взгляда от внука, долго гладила его по голове.
— Любимый, светик мой, ягненок ты мой… Не сжалился, говоришь?.. Не знает он жалости!
Она подняла к небу лицо с полузакрытыми глазами и прошептала:
— О боже, прими мое скорбное моление! Огради радость души моей от губящей злобы отца! Отведи от дитяти жестокость и бессердечность его, создатель наш!.. — Она провела по лицу беспомощными, старчески скрюченными пальцами, благословляя внука.
Улжан прошептала:
— Аминь.
Абай тоже провел руками по лицу.
Две матери… Между ними дитя, раненное в самое сердце. И в таинственных сумерках, когда темные силы носятся по земле, выискивая свои жертвы, все трое молча молились о мире, благости и любви.
Абаю показалось, что он снова вернулся к безмятежной радости детства, к его сияющей ясности и умиротворенности. На душе стало легче, но головная боль усилилась и поднялся жар.
В юрте настало молчание. Шум, поднятый вернувшимися овцами и ягнятами, становился все глуше и глуше— и наконец смолк. В степи сегодня было необычайно тихо.
Внезапно с края аула донеслись какие-то странные, заунывные, раздирающие сердце звуки.
— Ой, родной мой!.. Ой, родной мой!.. — рыдал кто-то, мчась на коне.
По обычаю, когда кто-нибудь умирает, верховой с криком и стонами скачет по аулам. «Ой, родной мой!»— начальные слова горькой вести. Ужасная мысль мелькнула в голове Улжан: не случилось ли несчастья с кем-нибудь из близких? Может быть, с самим Кунанбаем? Она вся задрожала и стала напряженно прислушиваться. Нет, ей просто послышалось от страха: конского топота не было. Но плач и стоны раздавались где-то совсем близко.
Абай понял все раньше других: голос был детский, но ловко передающий обрядовый плач взрослых, — это вопил Оспан…
Он возвращался с поля и поднял вой, не слушая старших, убеждавших его, что такие шутки не к добру.
— Ой, родной мой Кодар! — голосил он и, шлепая себя по бедрам, вприпрыжку мчался меж юртами.
Весть о смерти Кодара быстро разлетелась по аулам, и мальчишка подхватил ее. Сперва он выбрал открытое место у ручья, собрал целую ватагу ребятишек, и там несколько раз подряд поднимался похоронный плач. Потом они нашли сухую кость, выкопали ямку, похоронили кость, как покойника, и понеслись в разные стороны с шумом и криками.
Улжан не на шутку рассердилась на Оспана: Абай болен, а озорной мальчишка так напугал их всех своим воем.
— Поди-ка сюда, сынок! — сказала Улжан. — Поди сюда!
Она подозвала его спокойно, без малейших признаков недовольства в голосе. Если его бранить, он по обыкновению огрызнется и удерет, потом его и не поймаешь. А сейчас он без всякого страха через всю юрту бросился мимо Абая к матери и в один прыжок очутился у ее колен.
Улжан схватила его за левую руку.
— Что это ты выдумал — передразнивать похоронный плач! Было тебе сказано, что это не к добру? И ты выдумываешь такие шутки, когда болен Абай! У, пустоголовый! — сказала она сердито. Сильно дернув Оспана, она повернула его и несколько раз шлепнула по заду.
Оспан никогда не плакал, когда его бил отец: тот не обращал внимания на его слезы. Когда же его шлепала мать, он ревел во весь голос. Сейчас он тоже взвыл, стараясь поднять как можно больше шума. Вырвавшись из рук матери, он подбежал к высокой кровати, стоявшей в левой стороне юрты, лег, уткнулся лицом в подушку и продолжал реветь. Плач не помогал, — на этот раз мать и не собиралась жалеть и успокаивать его. Оспан скоро понял это. Слезы его уже высохли, но он все притворялся, что плачет, и порой испускал дикий крик. Наконец ему и самому надоело реветь, и он опять принялся за прежнее. Вполголоса он снова стал повторять.
— Ой, родной мой!
Он исподтишка посматривал в сторону матери: та не шелохнулась. Он повторил еще раз — и наконец опять разошелся:
— Ой, родной мой Абай!.. — заунывно затянул он.
Абай, несмотря на головную боль, невольно рассмеялся.
Но Оспан заметил, что грузное тело матери зашевелилось: очевидно, она собиралась встать. Предвидя недоброе, он не дал ей времени повернуться и проворно соскочил с постели.
— Ой, родной мой Абай!.. Абай!.. Абай!.. — прокричал он во весь голос и опрометью бросился к выходу. Мать успела подняться, но схватить озорника ей не удалось.
— Эй, кто там? Поймайте его! Притащите ко мне этого полоумного! — крикнула она.
Оспан торжественно прошелся несколько раз взад и вперед перед юртой, а затем помчался на самый край аула, — он вовремя заметил своего старшего брата Такежана, собиравшегося исполнить приказ матери.
6Абай болел долго. Одни говорили, что у него «ушик», другие — «сопка»,[32] третьи — тиф; каждый гадал по-своему, и никто не мог сказать точно. А что хуже всего — никто не брался лечить.
Только один раз — на второй день болезни — по приказанию бабушки одна пожилая женщина на закате солнца вывела Абая из юрты и несколько раз похлопала его горячими легкими только что зарезанного барана.
— Сгинь, нечистая сила, сгинь! Оставь сына моего! — говорила она и, повернув Абая лицом к заходящему солнцу, продолжала свое удивительное лечение, опрыскивая мальчика водой изо рта.
Ноги не слушались Абая и дрожали, голова кружилась, он с трудом выбрался из юрты. Может быть, оттого, что у него потемнело в глазах, западный край неба, полыхающий в огне закатных лучей, казался ему совсем особенным. Сказка это или сон? В этом полубреду мир выглядел новым и странным…
Через два дня аул откочевал на Чингиз. За несколько дней перед тем распорядители кочевки расспрашивали проезжих: оттаяла ли почва на жайляу, высохла ли земля, поднялась ли зелень? Обычно подножия Чингиза оттаивали быстро и сразу покрывались пышной зеленью; склоны же прогревались медленно, и трава на них пробивалась скупо, — слишком много выпадало на них снегу, покров его был слишком толст.
Широкие, богатые водой и пастбищами жайляу всех родов Тобыкты находились по ту сторону хребта Чингиз. Едва тронулся с Кольгайнара аул Кунанбая, другие ближние аулы тоже дружно снялись со своих мест. Они шли целой лавиной, разными тропами перебираясь через горные перевалы.
Если бы Абай был здоров, то дни кочевки были бы для него днями непрерывных удовольствий, веселья, скачек. Весенняя кочевка через трудные перевалы Чингиза тяжела для взрослых — для пастухов, табунщиков и «соседей». Для детей и подростков это сплошная цепь развлечений. В прошлые годы все десять перегонов кочевки от Кольгайнара до реки Байкошкар, протекающей по ту сторону Чингиза, Абай проводил, как веселый праздник.
В этом году аул откочевал туда же. На пути Абаю знакомы все места остановок. В некоторые урочища аулы приходили утром, останавливаясь на целый день, и к вечеру двигались дальше. Кочевку проводили спешно, и даже там, где приходилось оставаться два-три дня, больших юрт все же не ставили, а разбивали только легкие маленькие юрты и уютные низенькие палатки и шалаши.[33] Каждый устраивал себе жилище по своему вкусу, как кому нравилось, точно по пути на жайляу все сговорились играть в «аул-аул», «шалаш-шалаш» и «курке курке».[34]
Во время кочевки аулы, даже далеко отстоящие один от другого, съезжаются вместе. Они появляются бог знает откуда и следуют одним сплошным потоком. Сходятся люди, смешиваются стада, и в эти дни трудно отделить одни аул от другого.
Но если для кого-нибудь кочевка — удовольствие, то чабанам и табунщикам она доставляет бесконечные хлопоты, неисчерпаемые заботы, сплошную муку: то расседланные кони забредут в чужой табун, то ягнята одного аула смешаются со стадом другого, то овцы перепутаются так, что не разобрать… В такой неразберихе ягнята и бараны беззащитной бедноты становятся добычей любителей чужого добра по завету: «Пальцем придержи, глазом подмигни».[35] И сколько аткаминеров, оберегая свое стадо, потрошат в ночной темноте живую «прибыль», оказавшуюся в их табуне, и торопливо — полусырую — съедают у костров!..