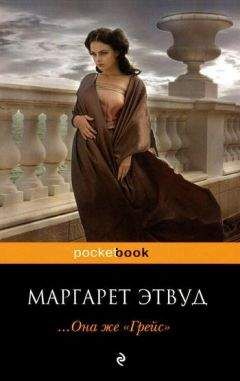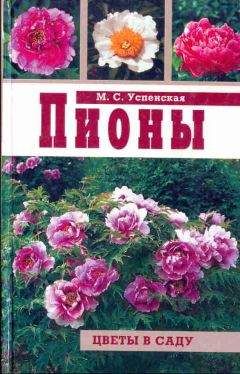Саймон захвачен такой непосредственностью врасплох. Он не одобряет публичных казней, вызывающих кровавые фантазии среди излишне впечатлительной части населения. Но он хорошо себя знает: если бы такая возможность представилась, любопытство взяло бы верх над угрызениями совести.
— Возможно. Из профессионального интереса, — осторожно замечает он. — Но если бы у меня была сестра, я не позволил бы ей туда идти.
Глаза мисс Лидии распахиваются от изумления:
— Но почему?
— Женщинам не следует наблюдать столь жуткие зрелища, — говорит он. — Это опасно для их утонченных натур.
И сам понимает, что его слова звучат фальшиво.
В странствиях он сталкивался со многими женщинами, в которых едва ли можно было заподозрить утонченную натуру. Он видел, как сумасшедшие разрывали на себе одежды и обнажали тела, и видел, как то же самое делали проститутки самого низкого пошиба. Он видел пьяных, бранчливых женщин, которые дрались, словно борцы на ринге, выдирая друг другу волосы. Улицы Парижа и Лондона ими кишели: он знал, что они избавляются от собственных младенцев и продают своих юных дочерей богатым мужчинам, которые надеются, что, насилуя детей, не подхватят срамной болезни. Поэтому Саймон не питает иллюзий насчет утонченной женской натуры, но тем более должен оберегать чистоту тех, кто пока еще чист. Лицемерие в подобном деле, несомненно, оправданно: необходимо представлять реальность такой, какова она должна быть.
— Вы думаете, у меня утонченная натура? — спрашивает мисс Лидия.
— Уверен, — отвечает Саймон. Его мучает вопрос, что же он чувствует своей ногой: ее бедро или всего лишь деталь ее платья.
— А я иногда не уверена, — продолжает мисс Лидия. — Некоторые люди говорят, что у мисс Флоренс Найтингейл[30] грубая натура, иначе бы она не могла наблюдать столь унизительные зрелища без всякого ущерба для своего здоровья. Но она ведь героиня!
— Без сомнения, — поддерживает Саймон.
Он подозревает, что мисс Лидия с ним флиртует. Это довольно приятно, но странным образом напоминает ему о матери. Сколько вполне приемлемых молодых девушек она осторожно расставляла перед ним, наподобие мормышек, украшенных перьями! Она всегда помещала их рядом с вазой, наполненной белыми цветами. Их мораль была безупречна, манеры — чисты, как вешние воды, а душа их представлялась ему куском сырого теста, которому он сам мог придать необходимую форму. Пока девушки одного «урожая» обручаются и выходят замуж, совсем юные распускаются, подобно майским тюльпанам. Теперь они гораздо моложе Саймона, и ему трудно с ними общаться — все равно что разговаривать с целой корзиной котят.
Впрочем, его матушка вечно путала молодость с податливостью. В действительности ей нужна такая невестка, которую формировал бы не Саймон, а она сама. Поэтому девушки все так же проплывают мимо, и он по-прежнему равнодушно от них отворачивается, а матушка мягко упрекает его в лени и неблагодарности. Он винит в этом самого себя, повесу и циника, заботливо благодарит мать за старания и успокаивает ее: рано или поздно он женится, но сейчас к этому пока не готов. Вначале он должен заняться научной работой, чего-то добиться в жизни, совершить важное открытие, сделать себе имя.
У него уже есть имя, укоризненно вздыхает матушка, превосходное имя, которое он, очевидно, решил загубить, не желая передавать его своим потомкам. В этом месте она всегда негромко покашливает: это означает, что роды были трудными, они чуть не свели ее в могилу и дали серьезное осложнение на легкие — невероятный с медицинской точки зрения эффект, но в детстве Саймон всегда съеживался при этом от угрызений совести. Если бы у него родился сын, продолжает матушка, — но сперва он, конечно, женится, — она могла бы спокойно сойти в могилу. Он дразнит ее, заявляя, что в таком случае женитьба для него была бы грехом, ибо такой брак можно приравнять к матереубийству. И добавляет, пытаясь смягчить колкость, что ему легче обойтись без жены, чем без матери — особенно такой идеальной матери, как она. После этих слов матушка внимательно смотрит на него, давая понять, что все эти уловки ей хорошо известны и на мякине ее не проведешь. Он слишком умен, говорит матушка, но не следует думать, будто ее можно подкупить лестью. Однако она смягчается.
Порой у него возникает желание уступить. Он мог бы выбрать себе кого-нибудь из предлагаемых юных барышень — самую богатую. Вел бы размеренную жизнь, его завтраки стали бы наконец съедобными, а дети уважали бы отца. Акт продолжения рода они совершали бы тайком, под стыдливым покровом белых простыней, — жена покорно, хоть и с надлежащим отвращением, а он с полным на то правом, — но об этом они бы никогда не вспоминали. Его дом был бы снабжен всеми современными удобствами, а сам он — надежно защищен от житейских забот и тревог. В жизни бывает и хуже.
— Вы думаете, у Грейс утонченная натура? — спрашивает мисс Лидия. — Я уверена, что она не совершала этих убийств, хоть и жалеет, что никому о них не доложила. Наверное, Джеймс Макдермотт возвел на нее напраслину. Впрочем, говорят, он был ее любовником. Это правда?
Саймон чувствует, что покраснел. Если она и флиртует, то сама этого не осознает. Она слишком невинна, чтобы это понимать.
— Трудно сказать, — бормочет он.
— Возможно, ее похитили, — мечтательно говорит мисс Лидия. — В книгах женщин всегда похищают. Но среди моих знакомых таких нет. А у вас?
Саймон отвечает, что никогда с такими не сталкивался.
— Ему отрубили голову. — Мисс Лидия понижает голос. — Макдермотту. И хранят ее в банке, в Университете Торонто.
— Не может такого быть, — возражает Саймон, вновь придя в замешательство. — Череп они, может, и сохранили, но не целую же голову!
— Засолили, как огромный огурец, — удовлетворенно отмечает мисс Лидия. — Ой, простите, матушка хочет, чтобы я пошла и поговорила с преподобным Верринджером. Я бы охотнее побеседовала с вами — он ведь так любит поучать. Но матушка считает, что это полезно для моей нравственности.
Преподобный Верринджер действительно только что вошел в комнату и улыбается Саймону с раздражающей доброжелательностью, словно своему протеже. Или, возможно, он улыбается Лидии?
Саймон смотрит, как Лидия скользит по комнате той плавной походкой, которой обучают юных барышень. Оставшись в одиночестве на диванчике, он думает о Грейс, которую видит каждый будний день: она сидит напротив него в комнате для шитья. На портрете Грейс кажется старше своих лет, а сейчас, наоборот, выглядит моложе. У нее бледное лицо, кожа гладкая, без единой морщинки и необыкновенно тонкая — наверное, потому, что ее не выпускают на улицу. Или, возможно, это следствие скудного тюремного питания. Она похудела, немного осунулась, но если даже на рисунке изображена хорошенькая женщина, теперь она стала еще краше. Или нет — красота у нее сейчас другая. Скулы приобрели мраморную, классическую простоту. Посмотришь на нее — и поверишь, что страдания и впрямь облагораживают.
Но в тесной комнатке для шитья Саймон не только видит ее, но и обоняет. Он старается не обращать на запах внимания, но это глубинное течение отвлекает его. От нее пахнет дымом, хозяйственным мылом и выступающей на коже солью. А еще самой кожей — влажной, натянутой, зрелой. Чем еще? Папоротником и грибами, раздавленными и забродившими фруктами. Он задается вопросом, как часто узницам разрешается мыться. Хоть ее волосы заплетены и заправлены под чепец, они тоже пахнут — это сильный мускусный запах скальпа. Перед ним — самка животного, настороженная и похожая на лисицу. Он настораживается в ответ: по коже бегают мурашки. Порой Саймону кажется, что он увязает в зыбучем песке.
Каждый день он кладет перед Грейс какой-нибудь небольшой предмет и просит ее рассказать, на какие мысли тот ее наводит. На этой неделе он перепробовал разные корнеплоды, надеясь выстроить нисходящую цепочку: например, «Свекла — Погреб — Трупы» или «Репа — Подземелье — Могила». Согласно его теории, соответствующий предмет должен вызвать у Грейс цепочку тревожных ассоциаций. Но пока что она принимает все его подарки за чистую монету, и ему удалось выудить у нее лишь несколько кулинарных рецептов.
В пятницу он решил взять быка за рога.
— Вы можете быть со мной абсолютно откровенны, Грейс, — сказал он. — Вам не нужно ничего утаивать.
— А с чего мне утаивать, сэр? — возразила она. — Это леди есть что скрывать, ведь она боится уронить свое доброе имя. Ну а мне терять нечего.
— Что вы хотите этим сказать, Грейс?
— Я никогда не была леди, сэр, и уже давно уронила свое доброе имя. Я могу говорить все, что вздумается, а захочу — и вообще ничего не скажу.
— Вас не волнует, какого я о вас мнения, Грейс?
Она быстро, внимательно на него посмотрела, а потом снова вернулась к шитью.