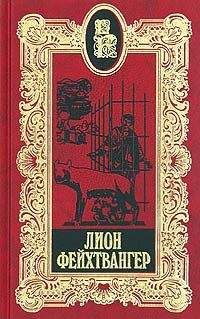Говорить такие вещи теперь, когда все газеты трезвонят об академии, которую нацисты создают для Оскара, было явным безумием. Совершенно ясно Оскар заболел манией преследования. Но, может быть, это и хорошо, может быть, теперь он и Оскар раз навсегда развяжутся с этой гнусной бандой, с нацистами. Алоиз схватил друга за рукав.
— Так давай попросту уедем, Оскар, — сказал он настойчиво, ласково, таинственным тоном заговорщика. — Ведь я тебе всегда говорил, что с нацистами ты не уживешься. Теперь ты видишь: Гансль и вся его идиотская политика только сводят тебя с ума. Давай уедем за границу. Пусть сами делают свое грязное дело. Контрактов у нас будет сколько душе угодно. Манц устроит их нам в два счета. Уедем за границу и будем заниматься нашим старым ремеслом.
Он говорил сбивчиво, горячо, с дружеской настойчивостью: он видел, как страдает Оскар.
Оскара взволновала мысль о том, что Алоиз ради него отказывается от своего Мюнхена. Он улыбнулся, растроганный и смущенный. Неужели Алоиз так плохо знает нацистов? Да разве они выпустят за границу человека, которого уже обрекли на смерть? Но он не стал пускаться в длинные объяснения.
— Да вознаградит тебя бог, Алоиз, — сказал он. — Не так уж плохи мои дела. Ничего, все утрясется.
Он ушел.
Алоиз долго еще сидел, подперев рукой длинное, худое лицо; еще задумчивее, чем всегда, смотрели карие, печальные, насмешливые глаза. «Черт–черт», — сказал он про себя, скорее ворчливо, чем сердито. Глупым речам своего друга он не придавал особого значения, но то, что Оскар был так тих и кроток, наполняло его сердце заботой и недобрыми предчувствиями.
На людях Оскару иногда удавалось отогнать страх, когда же он оставался в одиночестве, этот страх ложился на душу почти физическим грузом. Порою он чувствовал себя как бы в пустоте, ему мерещилось, что он уже находится по ту сторону жизни. Он еще мог двигаться, мог говорить, но звук его голоса был уже почти не слышен. Оскару казалось, что он накрыт стеклянным колпаком.
Не было ничего осязаемого, ничего такого, что могло бы дать основание для страха. А Оскара все больше и больше мучили подозрения против всех и всего. Какой–то парень возился в его саду.
— Что вам здесь надо? — напустился на него Оскар. — Это частное владение.
Оказалось, что парень — помощник садовника и выполняет порученную ему работу.
Оскару звонил по телефону министр просвещения, газеты только и говорили о предстоящем открытии академии. Все шло своим чередом. Но Оскара это не обманывало. Они оставались незримыми, его стражи, его убийцы. Но его не проведешь. Он чувствовал их всевидящее око. Он знал, что петля незаметно затягивается все туже, хоть ее и не видно.
Не в силах дольше терпеть, он отправился к Гансйоргу. Это было на третий день после разговора между Гансйоргом и Проэлем.
— Я должен с тобой поговорить, сейчас же, наедине, — сказал Оскар.
— А что случилось? — спросил Гансйорг. — Что с тобой? Это по поводу академии? Трубить еще громче, по–моему, нет возможности.
Он усиленно затянулся сигаретой, стараясь прикрыть свое беспокойство развязным тоном.
— Что случилось, — горько и растерянно повторил Оскар, — тебе должно быть известно лучше, чем мне. Ведь ты меня предупредил, что мне головы не сносить, значит, ты должен знать, когда падет топор.
— Ты бредишь, ты переутомился, — сказал Гансйорг точно так же, как и Алоиз.
Но Оскар уловил нотку неуверенности, что–то судорожное в словах Гансйорга, во всем его поведении. Да, он, Оскар, обречен. Где–то в книгах «аристократов» уже записана дата его гибели, час его смерти. А этот Малыш заодно с «аристократами» и отлично знает, что затевается.
— Значит, ты ничего не хочешь сказать мне, — жалобно произнес он, и в его голосе было такое отчаяние, что Гансйорг почувствовал вину и сострадание.
— Не надо нервничать, — просительно сказал он. — Я поникаю, тебя лихорадит: выступать в роли президента академии нелегко. Но ты великолепно справился с процессом. И я уверен, что открытие академии ты тоже проведешь блестяще. Играючи. — Он курил. Он улыбался.
Оскар не ответил на его улыбку. Он только поглядел на Гансйорга, даже не очень пристально, даже не очень выразительно, и все же Гансйорг не мог вынести этого взгляда, — Малыш чувствовал, что он, Оскар, знает все.
И Оскар начал жаловаться. Он не кричал, не бранился — Гансйоргу было бы гораздо приятнее, если бы он бранился. Оскар говорил тихо, без обычного высокомерия, и каждое его слово было проникнуто горькой безнадежностью.
— Зачем ты меня предал, Гансль? — сказал он. — Ведь предал? Или нет? Ты что–то знаешь? Очень многое знаешь. Почему не сказал мне ни слова об этой статье? Ты же знал, что она задумана, чтобы меня погубить. И должен был вовремя предупредить меня. Должен был спасти. Ты мог. Безусловно, мог. Почему ты этого не сделал, Гансль, брат мой. Я иногда низко поступал с тобой, согласен, и ты имел право мне отомстить. Но погубить меня — нет, это слишком. Ведь человеку дается только одна жизнь, а мне еще нет и сорока пяти. Я прошел через войну, через сто тысяч смертей, а теперь вот ты сидишь и куришь сигарету, и тебе безразлично, что я околею. А ведь мы связаны, орфически, еще водами глубин, и, окажись ты в петле, уж я не дал бы тебя повесить, не предал бы тебя, Гансль, брат мой.
— Не болтай чепухи, — ответил Гансйорг. — Может быть, отложить открытие и ты поедешь на несколько дней к морю или в горы, чтобы отдохнуть, предложил он, но это были вымученные слова, в них не чувствовалось убежденности. «Еще это надо выдержать, — думал он, — надо как–нибудь вытерпеть. Ведь уже нет никакого смысла идти к Проэлю и говорить, что я все–таки предпочитаю отправить его в сумасшедший дом. Проэль теперь на это не пойдет, я только погублю вместе с ним и себя».
— Ты дьявольски умен, — говорил между тем Оскар, — ты всегда был умнее меня. И ты, вероятно, не по злобе оставляешь меня в петле. Своя рубашка ближе к телу. Тут ты прав. Я и сам так думал. Но только в таких случаях, когда мы, например, крали яблоки. А если бы дело коснулось твоей жизни, Гансль, я бы не сказал: «Поезжай к морю или в горы», — тогда я заслонил бы тебя, ты это отлично знаешь. Ну, да что толку говорить об этом. Все кончено. И я рад, что не так дьявольски умен, как ты.
Он говорил медленно, тягучим голосом, будто извлекал из себя слова, точно находясь в трансе. Гансйорг ничего не ответил, даже не взглянул на брата.
Вскоре Оскар ушел. Гансйорг слышал, что он уходит, но не поднял глаз, не шевельнулся. Целых две–три минуты после ухода Оскара сидел он неподвижно, тщедушный, мертвенно–бледный.
В течение последних четырех дней, какие еще осталось прожить Оскару, был ли он один или на людях, его не покидал мучительный страх. Страх тяжело наваливался ему на грудь, давил, душил. Встречая штурмовика, Оскар думал: «Может быть, вот этот завтра или послезавтра хватит меня топором по голове». Катаясь на яхте по озеру, он думал: «Здесь, может быть, утопят меня». Гуляя в лесу, вблизи своего замка Зофиенбург, он думал: «Не здесь ли меня зароют». И все время боялся — вот они придут сейчас, сию минуту.
Оскар принимал снотворное, но спал плохо. Как–то он проснулся ошеломленный, подавленный, весь в поту. Он ясно слышал шаги, он крикнул в темноту: «Кто там?» Шаги затихли. Но кто–то побывал в комнате, он был в этом уверен. Мороз пробежал у него по коже, он перекрестился, как в детстве.
На следующий день вечером, открывая калитку своего сада, Оскар вспомнил, что в его связке ключей есть ключик от квартиры Кэтэ, завоеванный им после долгой борьбы. Он ощутил непреодолимое желание побыть у нее в квартире. «Там, — думал Оскар, — я, может быть, почувствую раскаяние и избавлюсь от страха».
Он поехал туда, открыл квартиру. Она не была пуста, но Оскару показалась более чем пустой. Кэтэ оставила все, что он подарил ей, и все, что имело какое–нибудь отношение к нему.
Свет уличного фонаря ярко освещал комнату. Оскар стоял в опустевшей квартире, прислонившись к огромному роялю. Этот обычно столь уверенный в себе человек опирался на рояль неуклюже, неловко, словно обмякнув.