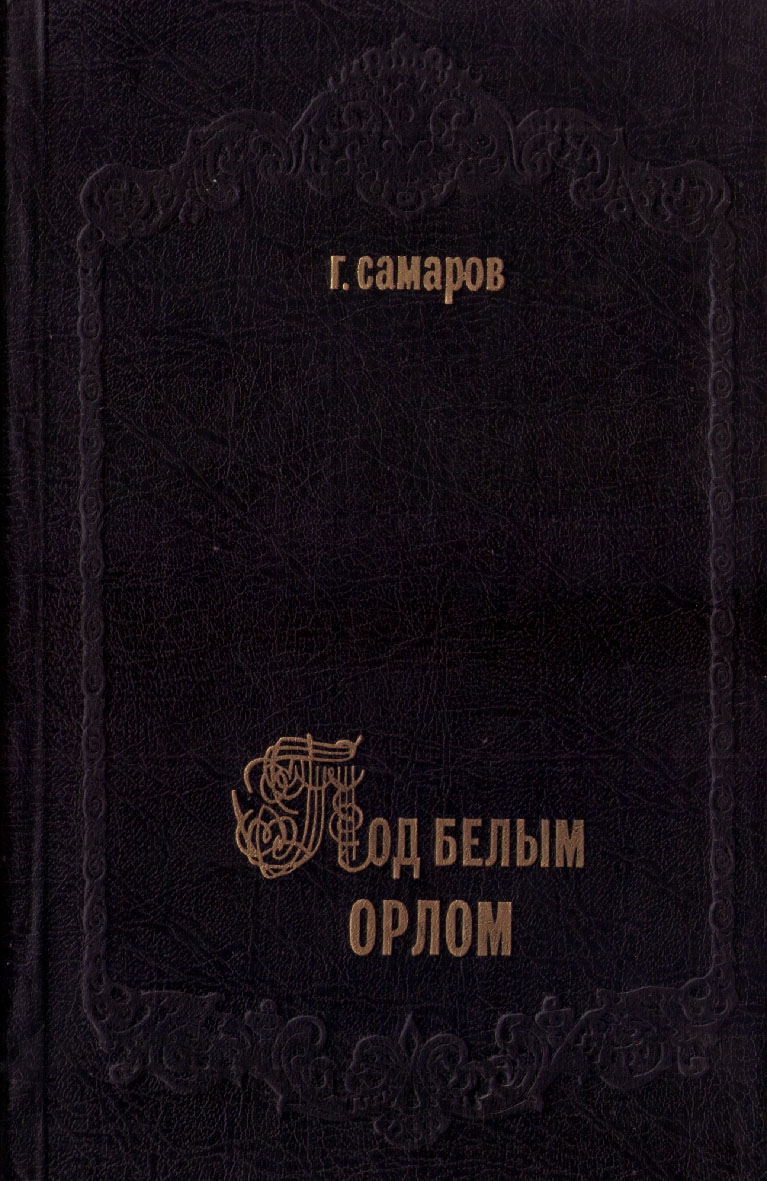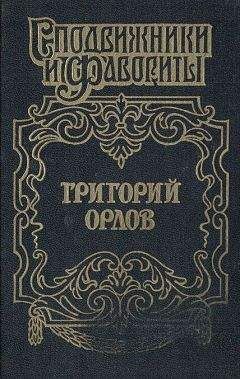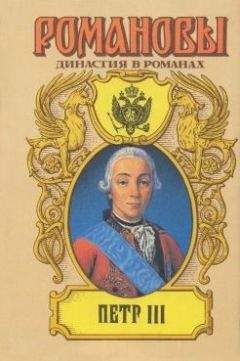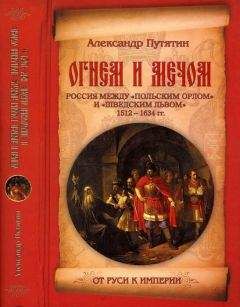расстояние и неизгладимо запечатлевает в испуганной душе картину, облитую ярким, блестящим сиянием этой фосфорической вспышки.
Молодая девушка опустилась на стул, прижала руку к сердцу и пугливо озиралась, точно боясь, что пред ней возникнет ещё какой-нибудь новый ужас.
Фон Герне подошёл к несчастной, положил руку на её голову и, заглядывая ей в глаза проницательным, настойчивым взором, произнёс:
— Значит, ты меня поняла, не так ли? На меня пожаловались, и я арестован; помни друзей, у которых ты найдёшь защиту и помощь.
Мария как будто почти не слышала его слов; её взоры по-прежнему боязливо блуждали, словно отыскивая что-то; губы девушки дрожали, а из её груди вырывалось точно тихое рыдание.
Взволнованный канцлер, подойдя к ней, успокаивающе произнёс:
— Я позабочусь о том, чтобы у вас не было ни в чём недостатка; живите в этом доме, сколько вам угодно, а при всякой надобности с полным доверием обращайтесь ко мне!.. Идите, господин фон Герне, идите! Думайте только о своей защите, для которой вам понадобится вся ваша сила! Предоставьте мне заботу о вашей племяннице! Поверьте, я сделаю всё необходимое для неё. Идите, идите! Лучше не длить горького прощания!
Фон Герне крепко сжал руками поникшую голову Марии и, наклонившись над нею, воскликнул:
— Прощай, дитя моё, прощай! Ведь ты поняла, не правда ли? Не забудь друзей!
Государственный канцлер взял под руку жестоко взволнованного министра и повёл его к дверям. Президент полиции заступил его место.
Когда двери отворились, в комнату кинулся Акст и расцеловал руки своего патрона.
Бледные и дрожащие теснились в коридоре лакеи. При виде их к фон Герне вернулись вся его сдержанность и всё самообладание. Гордо прошёл он, высоко подняв голову, через площадку на парадную лестницу. С достоинством и в то же время сердечно простился опальный вельможа мягким жестом руки со своими людьми, которые низко кланялись ему, и в то же самое время среди них там и сям слышалось тихое рыдание.
У подножия лестницы министр ещё раз обернулся назад и бросил последний взгляд во внутренность ярко освещённого, убранного с царскою роскошью дома, где он вкладывал всю свою силу и весь свой труд в достижение почти сверхчеловеческой цели, которая склонилась теперь разбитая в прах к его ногам. Его глаза также увлажнились слезами при этом прощальном взгляде, и он, поспешно отвернувшись, вышел из ярко освещённых сеней на крыльцо, окутанное ночною мглой, распространявшейся по улице. Тут фон Герне сел в проворно подкативший закрытый экипаж президента полиции. Тот присоединился к нему и, сопровождаемые небольшим отрядом драгун с обнажённым оружием, они покатили бойкой рысью в полицейское управление.
По уходе министра государственный канцлер с ласковой сердечностью старался ободрить Марию. Молодая девушка спокойно слушала, иногда кивая головой, точно соглашалась с его доводами, но по взорам её глаз, неподвижно устремлённым вдаль, было заметно, что она едва ли понимает слышанное, и не один раз её рука хваталась за сердце, точно под влиянием острой боли.
Наконец канцлер велел позвать её горничную, которая пришла вся в слезах и повела свою госпожу в её комнату.
Мария следовала за нею безучастно и машинально, тогда как государственный канцлер потребовал к себе ожидавших внизу своих секретарей, чтобы они опечатали при нем кабинет и канцелярию.
Когда Мария, опираясь на руку горничной, проходила через свою гостиную, направляясь в спальню, «Лорито» при виде её радостно захлопал крыльями и, рванувшись к ней, громко крикнул, словно уверенный, что так он скорее всего обратит на себя внимание:
— Игнатий!.. Игнатий!
Мария остановилась при этом возгласе, точно испугавшись, и вздрогнула всем телом; огневой румянец разлился по её лицу; в её глазах вспыхнула точно молния воспоминания и сознания, и сначала тихо, едва внятно, потом всё громче она стала повторять, в свою очередь, имя, произнесённое птицей, как будто отыскивая при помощи этих звуков что-то в тайниках своей души.
Наконец в ней точно проснулось полное воспоминание; её взоры приняли выражение ужаса, и ещё жарче разгорелся румянец на её щеках. Потом Мария внезапно побледнела, как смерть, пронзительный вопль вырвался из её уст и, прижав обе руки к сердцу, она рухнула на ковёр, причём красноватая пена окрасила её губы.
С громким плачем позвала горничная ещё нескольких служанок; потерявшую сознание молодую девушку отнесли в её спальню и уложили в постель.
Опрометью кинулись за домашним врачом. Тот объявил, что у больной необычайно сильная, опасная для жизни нервная горячка, при которой не остаётся ничего иного, как поддерживать организм лёгкими смягчающими средствами и выжидать, выдержат ли силы пациентки этот внезапно наступивший тяжёлый кризис.
Блестящий и гостеприимный дом фон Герне скоро опустел и стоял покинутым; слуги были отпущены, жуткая тишина господствовала в коридорах и залах, и никто из всех тех, которые с удовольствием пользовались радушием хозяина, не приближался к поражённому неожиданною бедою жилищу.
Все кредиторы министра — а их было немало — лезли сюда; на всё его наличное имущество было наложено запрещение, был открыт конкурс и всё опечатано и заперто; только государственный канцлер фон Фюрст, согласно своему обещанию, заезжал в пустынный дом справляться о состоянии здоровья Марии.
Он строго распорядился, чтобы комнаты больной оставались неприкосновенными и в стороне от всего, происходившего в прочих помещениях дома; однако получаемые им здесь вести были неутешительны; положение молодой девушки не изменялось; лихорадочный жар не спадал, а все целебные средства, употребляемые врачом, не приносили решительно никакой пользы.
Срок, назначенный для кризиса, миновал, не принеся ни малейшей перемены в состоянии больной, силы которой постепенно падали, так что доктор все сомнительнее покачивал головой.
Целыми часами лежала Мария, неподвижная и оцепеневшая, словно в летаргическом сне, и только жаркие вздохи её тревожно взволнованной груди показывали, что в этом нежном теле ещё теплится жизнь. Потом она внезапно поднималась с подушек с страдальческим воплем, её впалые глаза широко раскрывались и смотрели с призрачной неподвижностью, резко выделяясь на страшно исхудавшем, осунувшемся лице. Больная принималась жалобно звать любимого человека. Она разговаривала с ним, как будто слышала его ответы, она улыбалась с тем удивительно трогательным выражением, которое свойственно горячечным и помешанным, простирала руки, точно стараясь схватить и привлечь к себе представившееся ей видение; но вскоре опять больная жалобно вскрикивала в порыве жестокого горя, обвиняла Небо за то, что человек, которому она отдала всю свою душу, которого считала подобием божества, мог сделаться врагом, предателем, пока наконец, когда её силы истощались в болезненных содроганиях, несчастная снова не впадала в своё летаргическое состояние.
Попугай находился у