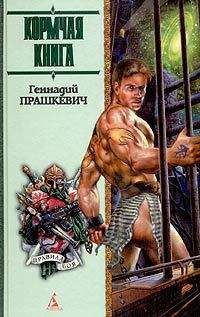„Это нашего покойного шамана кости, они что предвещают — страсть!“
Один старичок сказал: „Скоро на челноках поплывете, новый народ встретите“.
„Хэ! — сказали. — Мы с топорами, на челноках. Какой новый народ? Не боимся!“
„Против нового народа ничего острого не направляйте, — несогласно покивал юкагирам старичок. — Конца не будет новому народу, так много. С заката идут. Сердитые идут. У рта мохнатые идут. Ничего острого не направляйте, не то свои пепелища, обнюхивая, ходить будете“.
Один человек с сыном пошел.
Видят, ураса стоит — до самой верхушки сделана из дерева.
За кочкой залегли. Новый человек из дому вышел. Мочась, стоял. Бородатый стоял, ана-пугалба, у рта мохнатый. Сын шепнул: „Я выстрелю“. Отец еле остановил. Упомянутый человек в дом вошел, другой вышел. Мочась, стоял. Сын шепнул: „Я выстрелю“. На этот раз отец не успел остановить. Из деревянной урасы сразу много народу выбежало: „Откуда пришедшая стрела?“.
Стали искать. Схватили.
„Какие вы люди?“
„Мы юкагиры“.
„Много вас?“
„Нас много“.
Стали вином поить, курить дали.
„Вот как вам хорошо! — сказали. — Завтра всем стойбищем приходите, еще дадим“.
Старик вернулся на стойбище. Спросили: „Откуда веселый?“ — „Хэ! — сказал. — Мы новых людей встретили. Нас особой водой поили, курить табаку давали“.
Утром все пошли. Русские вином поили, всех уронило вино.
Потом чаем напоили, — вкусно. Потом табаку давали, — еще вкусней.
„Наша еда, — сказали, — вся такая вкусная. — Вас теперь так кормить будем“.
Согласно кивали. Нравилось.
Русские спросили: „Нам сдадитесь?“
Ответили: „Сдадимся“.
„Нам ясак давать будете?“
Ответили: „Будем…“»
Куда сегодня направим мы ярость масс?
Пять дней.
Потом еще три.
Гражданин Сергеевич особого нетерпения не проявлял.
Он больше молчал, часами смотрел в окно, будто видел на улице что-то новое. Ни о чем не спрашивал, вопросов не поощрял.
А Иванов читал.
Слепухина читал и Шорника.
Ковальчука читал и Леонтия Казина.
Бывшего военного прокурора Шаргунова читал и мрачного Мизурина — фольклориста.
Бывший прокурор, кстати, писал просто, прямо как Жюль Верн.
«Летом 1934 года Главным управлением Северного морского пути была отправлена группа зимовщиков на остров Врангеля. Так оказалось, что новый начальник зимовки с самых первых дней появления на острове начал активно воскрешать нравы капиталистических торгашей по отношению к имеющемуся местному населению…»
Нет, не похоже, чтобы в голову Вениамина Александровича Шаргунова могла прийти мысль о решительном переименовании немецко-австрийских городов в поселки городского типа. Да и бык Громобой у Шаргунова скорее бы статью схлопотал, чем пошел под переименование.
А Леонтий Казин?
Да, Сибирь далеко от столицы.
Да, здесь вьюга неделями злится.
Да, садами наш край еще беден.
Да, в тайге есть, конечно, медведи.
Но медвежьим одни лишь невежды
Край сибирский считают, как прежде!
Им, видать, невдомек, что с годами
Эти земли обжитыми стали,
Что давно новостроек огнями
Замерцали таежные дали…
А какие тут дивные весны! А какие тут звонкие сосны! Тихо кедры мохнатые дремлют, Разбежались цветы по увалам. Поглядишь и поверишь: на землю Словно радуга с неба упала. А какая тайга вековая! А какие тут горные цепи! А какие — от края до края — Медуницей пропахшие степи! Воздух чище воды родниковой, Только выйдешь в просторы — и сразу Пьешь и пьешь его жадно, готовый Пить еще и еще, до отказа…
* * *
Нумерованные листы с заметками начали обретать систему.
Доказательства налицо, невооруженным глазом видно, что никто из предложенных Иванову авторов не мог являться автором рукописи о селе Жулябине. И дело тут не в таланте. Автор книжки «Идут эшелоны» тоже не мог претендовать на авторство рукописи. Книжки о герое-машинисте Лунине («Говна-то!») рядом с изучаемой рукописью будто бы не существовало. Не проглядывалось никакой связи между машинистом Луниным и председателем сельхозячейки Яблоковым, бывшим Подъовцыным. Как ни вчитывайся, как ни поворачивай текст, не мог это написать один и тот же человек. Книжка о Лунине, это прежде всего напор, это понимание исторического момента, трудовой героизм. «Выкатывался мощный паровоз, ревел, пуская пары, пугал лося, выбежавшего из лесу». А рукопись о председателе сельхозячейки Яблокове — сплошное ожидание, ну, как там ляжет наша мечта? «Не только пшеницу и овес станем выращивать, это само собой, а еще рис китайский, плотный, какой иногда с промбазы привозят».
Иванов теперь читал, не торопясь, успокоенно.
И все равно выдавались часы, когда по коже, как мелкие внезапные звездочки, высыпала нервная сыпь. Вот как вести игру, если сдал такие карты? Полина правильно оценила книжку о машинисте Лунине. В библиотеке сотни таких.
Ночью особенно ясно представлялась Иванову разница между рукописью про председателя сельхозячейки и книжкой про героя-машиниста.
«Перед каждым обедом в общей столовой будем проводить политчас, — это из рукописи, — чтобы из Европы в наши головы никакой чепухи не надуло. Политморсос! Будущее!»
А из книжки: «Тело было ловким, без суетливых, лишних движений. Во время сложной работы руки машиниста мелькали здесь и там, как бы не делая никаких усилий, однако все делалось как надо и в срок или даже гораздо раньше. Быстрый взгляд при этом не пропускал ничего, что делалось кругом, а чуткий слух ловил все звуки».
Прав, прав Шорник: даже меня это не обогащает.
Сказки Кондрата Мизурина, как бы к ним ни относиться, вгоняют в оторопь, не зря за дикость свою отправлены в спецхран, а вот чего ждет от гражданина Иванова гражданин Сергеевич, это не совсем ясно. Ну, скажем, укажу я на Мизурина, что с того? Ничем связь странной рукописи о селе Жулябине с «Легендами и былями» не докажешь. Да и зачем указывать на человека, не имеющего к рукописи никакого отношения? Я-то знаю. Или, скажем, укажу на Петра Павловича Шорника. Какой смысл? Кто поверит, что военный казак мог всерьез заняться тем же селом?
Яркие отсветы будущей Сталинской премии падали на гостиничные стены.
Ох, все еще впереди! Обжигало счастливое чувство. Но вдруг вспоминал — тетрадь. Они же нашли тетрадь! Они нашли ее на почте. Ну ладно, пусть так, любой человек может зайти на почту и что-то там забыть, но в тетради аккуратно перечислены все поездки Иванова в Тайгу, в Томск, в Кемерово. Достаточно взглянуть на штемпели отправления на конвертах (а у них есть конверты) и сопоставить с датами поездок, как все сразу встает на свои места. Приехал Иванов в Тайгу, — и ушел в Москву конверт с главой рукописи. Приехал в Томск, — и в тот же день отправилась в Москву еще одна глава. Никаких чудес. К тому же скотник Ептышев. Ох, поздно он его переименовал, раньше надо было. Имя скотника не раз мелькало в тетради. Там же, кстати, мелькали и другие засветившиеся в рукописи имена. И сюжеты некоторых еще ненаписанных рассказов. Про швейцара из ресторана «Сибирь», например, про драматурга из Москвы, про тучного Абрама, страдавшего от водянки…
— Отдохните день-два…
Все-таки сжалился гражданин Сергеевич.
Или сверху приказ наконец поступил такой.
По дороге домой Иванов купил две бутылки «Московской».
Поговорю с Полярником, решил. Есть нам о чем поговорить. Инвалида угощу.
Даже татарку пожалел: она теперь, наверное, и на его пустующую комнату глаз положила. Сперва Полярник подвел татарку — вернулся в славе и блеске при полной Сталинской премии, а теперь он, Иванов, явится. Пока, конечно, без премии, но долго ли ждать? Был убежден, недолго. Главным читателем советских книг является все-таки не Нижняя Тунгуска, не другие библиотекарши или студенты; главным читателем Иванова, конечно, является недремлющий человек с трубкой. Может, уже доставлена телеграмма из Москвы в обком партии. Строгая, резкая телеграмма. Как можно такие страницы, как рукопись о селе Жулябине (ныне Радостное) держать под спудом? Автор указывает на простые решения сложных проблем, почему имя автора еще не названо вслух? Ах, автор скромен? Но ведь так и должно быть. Истинные творцы всегда скромны. Судьбы великих творений определяют не сплетни обывателей, а главный Читатель. Тот, который везде. Он на площадях, и в парках, и в скверах перед вокзалами и дворцами культуры, на барельефах исторических зданий, в кинотеатрах, в конторах. А Полина — только одна из многих. Ей думать не надо. Она о любых текстах отзывается так, как ей, дуре, хочется. А главный Читатель думает не об одной какой-то судьбе, он думает о судьбе всей страны в целом, о ее процветании. Он один знает, кому и когда подать знак. И когда подаст этот знак, огромная хорошо отлаженная система тут же выявит самого скромного и стеснительного творца!