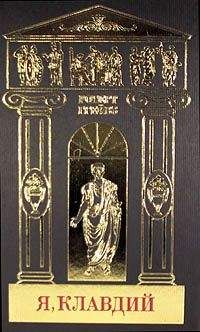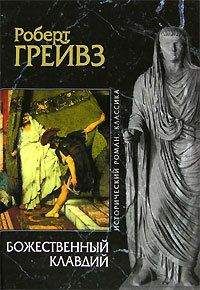Я с радостью стал царапать стилом по воску, а затем мы прочитали письмо с начала до конца, выискивая ошибки в правописании и композиции. Я был вынужден признать, что написал об одном слишком много, о другом слишком мало и поместил факты в неверном порядке. Абзац, где описывался плач невест и матерей и то, как толпа кинулась к мосту, чтобы в последний раз прокричать "ура" вслед уходящей колонне, должен был завершить письмо, а не начинать его. И ни к чему было упоминать, что кавалерия была на лошадях, это и так понятно. И я дважды написал, что боевой конь Августа споткнулся, одного раза достаточно, если он споткнулся один раз. А то, что Постум рассказал мне, когда мы возвращались домой, о религиозных обычаях евреев, интересно, но не имеет отношения к делу, потому что рекруты - италийцы, а не евреи. К тому же на Тарсе у моего адресата, вероятно, больше возможности изучать обычаи евреев, чем у Постума в Риме. С другой стороны, я не упомянул о некоторых вещах, о которых ему было бы интересно узнать: сколько рекрутов было на плацу, хорошо ли они обучены, в какой гарнизон их отправляли, грустный или веселый у них был вид, что сказал им Август в своей речи.
Три дня спустя Афинодор велел мне описать ccopу между моряком и старьевщиком, которую мы с ним наблюдали в тот день, проходя через рынок, и я сделал это с большим успехом. Сперва он обучал меня правильно излагать мысли, когда я писал сочинения, затем - когда говорил на заданную тему, и наконец - когда просто беседовал с ним. Афинодор не жалел на меня труда, постепенно я сделался более собранным, потому что он не пропускал без замечания ни одной моей небрежной, неуместной и неточной фразы.
Афинодор пытался заинтересовать меня философией, но когда увидел, что у меня нет к ней склонности, не принуждал меня переходить за границы общего знакомства с этим предметом. Именно Афинодор привил мне вкус к истории. У него были экземпляры первых двадцати томов "Истории Рима" Ливия, которые он давал мне читать в качестве образца легкого и ясного стиля. Ливий очаровал меня, и Афинодор обещал, как только я справлюсь с заиканием, познакомить меня с ним - они были друзья. Афинодор сдержал свое слово. Через шесть месяцев он взял меня в Аполлонову библиотеку и представил сгорбленному бородатому человеку лет шестидесяти, с желтоватым цветом лица, веселыми глазами и четкой манерой речи, который сердечно приветствовал меня как сына отца, всегда вызывавшего его восхищение. В то время Ливий не написал еще и половины своей "Истории", которая по ее окончании состояла из ста пятидесяти томов, начинаясь с легендарных времен и кончаясь смертью моего отца, за двенадцать лет до нашей встречи с Ливием. В том же самом году он начал публиковать свою работу - по пять томов в год - и как раз подошел к той дате, когда родился Юлий Цезарь. Ливий поздравил меня с тем, что у меня такой учитель, как Афинодор, а Афинодор сказал, что я сторицей возмещаю его труды; затем я признался Ливию в том, какое получаю удовольствие, читая его книги, которые Афинодор рекомендовал мне в качестве образца превосходного слога. Все были довольны, особенно Ливий.
- Что, ты тоже собираешься стать историком, молодой человек? - спросил он.
- Я бы хотел стать достойным этого почетного звания, - отвечал я, хотя, по правде говоря, никогда серьезно об этом не задумывался.
Тогда Ливий посоветовал, чтобы я составил жизнеописание своего отца, и предложил мне помочь, отослав к самым надежным историческим источникам. Я был очень польщен и решил взяться за работу прямо на следующий день. Но Ливий сказал, что писать для историка - последняя задача, сперва надо собрать материал и отточить перо. Афинодор одолжит мне свой острый перочинный ножичек, пошутил он.
Афинодор был величественным старцем с темными глазами, орлиным носом и самой удивительной бородой, когда-либо росшей на подбородке. Она спускалась волнами до пояса и была белой, как лебединое крыло. Это не просто поэтическое сравнение, я не из тех историков, которые пишут в псевдоэпическом стиле. Я хочу сказать, что она была в буквальном смысле слова такая же белая, как крыло лебедя. На искусственном озере в Саллюстиевых садах жило несколько ручных лебедей; однажды мы с Афинодором кормили их с лодки хлебом, и я помню, когда он перегнулся через борт, я обратил внимание на то, что его борода и их крылья - одного и того же цвета. Афинодор имел привычку во время беседы медленно и ритмично поглаживать бороду, и как-то раз он заметил, что именно благодаря этому она сделалась такой пышной. Он сказал, что с его пальцев струятся невидимые частицы огня, которые питают волосы. Это была типичная шутка стоика по поводу философии эпикурейцев.
Борода Афинодора напоминала мне о Сульпиции, которого, когда мне исполнилось тринадцать, Ливия назначила моим учителем истории. У Сульпиция была самая жалкая бороденка из всех бород, какие я видел, седая, вернее, сивая, грязного, серовато-белого цвета с желтыми прожилками, как снег на улицах Рима после оттепели, и всегда взлохмаченная. Когда его что-то тревожило, Сульпиций накручивал ее на палец и даже совал кончик в рот и жевал. Я думаю, Ливия выбрала его потому, что считала самым скучным человеком в Риме и надеялась, назначив его мне в учителя, отбить у меня охоту заниматься историей, - она не замедлила узнать о том, какие я питаю честолюбивые намерения. Ливия не ошиблась: Сульпиций умудрялся засушить самые интересные вещи, но даже его сухость не смогла отвратить меня от моей работы, а у него было одно прекрасное свойство - исключительная память на факты. Если мне были нужны какие-нибудь редкие сведения вроде того, каковы законы наследования у вождей тех альпийских племен, с которыми сражался мой отец, или значение и этимология их необычного боевого клича, Сульпиций знал, к кому обратиться по этому вопросу, в какой книге об этом написано, с какой полки в какой комнате какой библиотеки ее можно достать. Сульпиций не обладал критическим чувством и сам писал очень плохо, факты у него душили друг друга, как непрореженные цветы на грядке с рассадой. Но он оказался бесценным помощником, когда позднее я стал пользоваться его услугами, а не указаниями; он работал со мной тридцать один год, до самой своей смерти в возрасте восьмидесяти лет; его память до самого конца оставалась безупречной, а борода - такой же выцветшей, жидкой и растрепанной, как и раньше.
6 г. до н.э.
Я должен теперь вернуться на несколько лет назад и написать о моем дяде Тиберии, судьба которого имеет прямое отношение к этой истории. Тяжелая у него была жизнь; стремясь к одному - покою и уединению, он был вынужден помимо своей воли все время быть на виду то в качестве военачальника в какой-нибудь пограничной военной кампании, то в качестве консула в Риме, то в качестве особого уполномоченного в провинциях. Публичные почести мало для него значили, хотя бы потому, как он пожаловался раз моему отцу, что присуждались ему скорее за его услуги в качестве главного мальчика на побегушках у Августа и Ливии, чем за те поступки, которые он совершал по собственной инициативе на свою ответственность. К тому же, обязанный поддерживать достоинство императорской фамилии и зная, что Ливия все время следит за ним, Тиберий должен был быть крайне осторожным, чтобы не переступить в своей личной жизни канонов нравственности. Из-за подозрительного, ревнивого, замкнутого и меланхоличного, как я уже говорил, характера у него было мало друзей, да и те - не друзья, а прихлебатели, к которым он относился с циничным презрением, чего они и заслуживали. И, наконец, его отношения с Юлией со времени женитьбы на ней лет пять назад становились все хуже и хуже. У них родился сын, но вскоре умер, и после этого Тиберий отказался с ней спать. На то были три причины. Во-первых, Юлия старела и теряла свою стройность, а Тиберий терпеть не мог пышных форм - чем больше женщина походила на мальчика, тем лучше. (Випсания была совершенно воздушной.) Во-вторых, Юлия оказалась чересчур требовательна в своей страсти, отвечать на которую Тиберии не хотел, а когда он отвергал ее, она впадала в истерику. А в-третьих, он обнаружил, что, будучи отвергнута супругом, Юлия мстит ему тем, что заводит любовников, которые дают ей то, в чем он отказал.
К несчастью. Тиберии не мог добыть никаких улик ее неверности, кроме свидетельства рабов, так как Юлия вела себя осмотрительно, а показании рабов было недостаточно, чтобы, опираясь на них, просить у Августа разрешения развестись с его единственной любимой дочерью. Однако Ливии Тиберий ничего не сказал, так как его ненависть к ней равнялась его недоверию, и он предпочитал молча страдать. Тиберий подумал, что, если ему удастся уехать из Рима, оставив Юлию, возможно, она перестанет остерегаться и Август сам в конце концов узнает о ее поведении. Вот если бы где-нибудь на границе развязалась война, достаточно серьезная, чтобы его туда отправили главнокомандующим! Это был его единственный шанс. Но всюду все было спокойно, да и самому Тиберию порядком надоело сражаться. После смерти моего отца к нему перешло командование германскими армиями (Юлия настояла на том, чтобы сопровождать его к Рейну), и он вернулся в Рим всего несколько месяцев назад. С первого дня его возвращения Август выжимал из него все соки, поручив ему трудную и неприятную задачу обследовать, как ведутся дела в работных домах и каковы вообще условия труда в районах, где живет беднота. Как-то раз, забыв на миг об осторожности, Тиберий воскликнул, обращаясь к Ливии: "О, мать, если б я мог избавиться, хотя бы на несколько месяцев, от этой невыносимой жизни!" Она напугала его, ничего не ответив и гордо покинув комнату, но позднее, в тот же день, позвала Тиберия к себе и, к его удивлению, сказала, что решила исполнить его желание и попросить для него у Августа временный отпуск. Ливия приняла это решение отчасти потому, что хотела, чтобы Тиберий чувствовал себя ей обязанным, отчасти потому, что узнала о любовных шашнях Юлии, и ей, как и ему, пришла в голову мысль дать ей возможность сломать себе на этом шею. Но главной причиной было то, что старшие братья Постума Гай и Луций успели подрасти, и их отношения с Тиберием, их отчимом, были весьма натянутые.