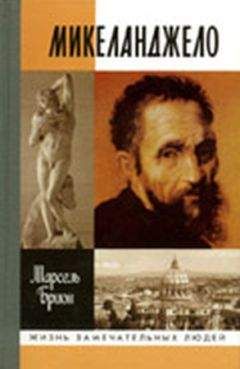Покупала Маша на свой выбор и вкус. И сахару взяла, и печенья, а для матери какую-то копченую рыбку. («Мама так соскучилась по копчености», — шепнула Никите на ухо.) А когда шли домой, вдруг сказала:
— Ой! Я и забыла тебя предупредить — мы этот долг вернем. Как только мне заплатят за вышивку, я спрячу в шкаф такой же рубль и отдам тебе…
Он не дал ей договорить. Оглянулся, нет ли кого на лестнице, и поцеловал.
— Чтоб больше я этого не слышал!
— А я не сама придумала. Это мне мама шепнула, когда мы выходили из комнаты.
Он пристально посмотрел на нее и воинственно поднял руку.
— Не буду! Не буду, Никитушка!
Никита заметил, с каким наслаждением обедала мать, как она лакомилась рыбой, да и Маша за чаем накинулась на печенье, а перед этим с аппетитом поела вкусной колбасы.
Был доволен: сделал приятное людям, ставшим для него близкими и родными.
Близкие! Родные! Не знал, не ведал Никита, что мать день и ночь грызет непослушную дочь, все время заводит разговор о степенном, почтенном господине, титулярном советнике Никодиме Даниловиче. Вот это был бы муж для Маши! А что этот голодранец солдат, да еще и мужик!
После обеда Маша потащила Никиту в кухню. Прикрыв дверь, села рядом и склонила голову ему на плечо.
— Любимый! Как я ждала тебя все эти дни… Знаешь, и ночью несколько раз просыпалась, прислушивалась, не идешь ли ты. Что это такое? Скажи, Никитушка, почему девушка должна так страдать?
Он молча смотрел на нее, внезапно изменился в лице. И глаза заволокло туманом. Руки у него безвольно опустились.
— Никитушка! — испуганно спросила. — Что с тобой? Что случилось?
— Ничего не случилось, любимая моя.
— Нет! Что-то скрываешь от меня. Чует мое сердце. Скажи! Скажи!
— Хочу повиниться перед тобой… Я… я тебя обманул. Но не сердись. Я не хотел этого делать… Я не виноват. Я не мог заставить себя не ходить к вам, не видеться с тобой, меня тянуло сюда, звали глаза твои, и я ходил… Не мог иначе. Я полюбил тебя!
— Полюбил? Любимый мой! — Обнимала, целовала, ласкала. И все же чувствовала какой-то холодок. — Никита! Ты не такой, как был в прошлое воскресенье. Сидишь рядом, а на самом деле далекий… И руки не такие!
— Не такие… Слушай, Маша. Я виноват перед тобой. Не сказал тебе, что женат… Оставил жену в селе на Полтавщине, Аверьян тебе ничего об этом не сказал?.. Прости меня…
Она побледнела, но не выпускала его пальцев из своих рук и пристально смотрела на него печальными глазами. Чувствуя себя виноватым, он не знал, куда деваться от пронизывающего взгляда. Постепенно ее похолодевшие голубые глаза стали теплеть, и в них появилось светлое-светлое сияние.
— Виноват? — порывисто спросила Маша. — Нет, не виноват… Виновата я… Нет, и я не виновата… Так кто же виноват? Есть виноватые — наша любовь и мы оба!
Ее горячность опьянила Никиту, он уже не чувствовал ничего, кроме дрожащих Машиных рук и губ. Казалось, что они плывут вдвоем где-то в море и никто их не видит. Они не спрашивали себя, может быть, в этом и есть людское счастье, когда два сердца бьются как одно. А зачем спрашивать? Сидели, обнявшись, забыв обо всем. Маша впервые в жизни переживала такую близость, да и Никита тоже впервые, ведь он почти никогда не был наедине с Мотрей. В тесной хате, когда рядом столько людей и днем и ночью, не только не обнимешь жену, но и ласковое слово не скажешь.
— Никита!
Он не ответил. Лишь безотрывно смотрел в ее такие родные для него глаза.
— Никитушка мой, — поцеловав, произнесла она, — я не сержусь… Ты не виноват… Но не покидай меня… Ходи к нам… Не лишай меня этой радости… Я не могу жить без тебя. Не лишай меня, бедную девушку, счастья… Мне так хорошо с тобой. — И снова покрывала поцелуями его лицо.
Как не похожа она на запорожанских девчат! А может быть, он не знает их? Возможно, есть там и такие, как Маша? Может быть, и Мотря такая, только тяжелое сиротство подрезало ей крылья. Не довелось ей проявить свои нерастраченные чувства!
— Маша! Буду ходить… Но что дальше?..
Встрепенулись ресницы, зажглись огоньки радости в глазах.
— Что дальше? Ничего… Я счастлива, когда ты рядом со мной. И прошу тебя, не отнимай у меня этого счастья. Может, никогда в жизни не будет таких счастливых дней. Неужели ты не подаришь мне их?
— Подарю, подарю, любимая… Буду ходить, буду.
— А я буду встречать… Возможно, скоро вернется Аверьян. Хочу похвастаться перед ним своим счастьем… Чуть не забыла. То письмо я отдала. Приходила хорошенькая девушка.
Прошли майские маневры, кончались летние дни, а Аверьян Несторовский не возвращался. Фельдфебель Петрушенков по-прежнему по воскресеньям давал Никите увольнительные в город, этому невольно способствовала его возлюбленная. Она расхваливала Никиту перед своим поклонником. И послушный солдат, и вежливый, и скромный, и к фельдфебелю относится с уважением. И папаше понравился своей скромностью. И Петрушенков стал еще больше благосклонен к Никите. Сам же Никита не хотел преступать грани дозволенного в отношениях с начальством. Ни разу не осмелился спросить у фельдфебеля о судьбе своего друга Аверьяна. А очень хотелось узнать. Возможно, фельдфебелю что-нибудь и известно, но как он отнесется к этому? Может накричать, лишить увольнительных. А вдруг донесет жандармам? Лучше молчать.
Незаметно, крадучись, приближалась петербургская осень. Выпадали и ясные, солнечные дни, но петербуржцы привыкли, что осень не баловала их теплом. Зачастили дожди, под серо-хмурым небом стояли намокшие деревья в Летнем саду, мимо которого всегда проходил Никита, возвращаясь от Маши.
Об Аверьяне ни слуху ни духу, будто и не было на свете этого человека. — В один из дождливых сентябрьских дней, когда возвращались после муштры на казарменном плацу, Петрушенков приказал Никите забрать мишени и отнести их в фельдфебельскую «каморку».
— Да осторожно! — строго крикнул, когда поднимались по лестнице на второй этаж. — Какой же ты неуклюжий! — гаркнул, увидев, что Никита краем широкой доски, на которую была наклеена бумажная мишень, зацепил стену и отбил штукатурку. — Чурбан! Ходишь, как старая баба! А ну распрямись! Держись прямо!
Никита еще больше согнулся, следя, чтобы непослушная доска не зацепилась в дверях. Солдаты слышали, как фельдфебель кричал на притихшего Никиту. В комнате Петрушенков усмехнулся, помог снять с плеча доску, и они вдвоем поставили ее в угол.
— Хорошего перца задал я тебе. Нарочно, чтобы все слышали. Пусть думают, что я придираюсь к тебе. Подойди ближе. До моих ушей дошла новость. Был сегодня возле батальонной канцелярии. Услышал голос майора. Говорит он офицерам, что того разбойника, который в царя стрелял… как его называли? Татарская какая-то фамилия… Ага… Каракоз. Так вот того Каракоза на прошлой неделе, третьего сентября, повесили на Смоленском поле. Людей было много. Приказано было прислать офицеров от всех полков. От нашего были генерал и майор. А я подслушал. Нет Каракоза. Да и что он один мог сделать? Человек точно муравей! Ползет, ползет по земле, а ты сделаешь шаг да и раздавишь его ногой, притопчешь, как пылинку. Вот так и с Каракозом поступили. Жил, ходил, о чем-то думал — и словно корова языком слизала. А еще молодой был — всего двадцать шесть лет прожил.
Никиту так и подмывало спросить: а где же Аверьян? Но Петрушенков сам вспомнил своего несчастного подчиненного.
— А про Несторовского ничего определенного не слышно. Доподлинно не знаю, но говорят, что состоялся суд. Человек тридцать приговорили: кого к каторжным работам в Сибири, а кого в ссылку туда же. Среди них и наш Несторовский… — Помолчав какое-то мгновение, добавил: — Хороший был человек. Умный. И все команды выполнял быстро. А когда спросишь его: «Как дела, рядовой Несторовский?» — сразу отчеканит: «Дела хороши, господин фельдфебель, а будут еще лучше!» Вот тебе и лучше! Упрятали куда-то… Хорошо, если в ссылку. Там хоть свободнее дышать, хоть можно выйти на улицу да на солнце посмотреть. А на каторге — как птичка в клетке, да еще в кандалы закуют… — Глянул на Никиту доброжелательно: — Слушай меня, старшего. Не лезь никуда, не подставляй голову, а то отрубят. Служи верно царю-батюшке, и все. Никто тебя не тронет.
Никита не знал, как истолковать предупреждение Петрушенкова. Действительно ли тот хочет ему добра и искренне предостерегает или, может быть, пытается заманить в ловушку.
— Благодарю, господин фельдфебель! Я слушаюсь вас. Честно служу царю-батюшке…
— Молодец, рядовой Гамай!
— Разрешите идти?
— Иди, рядовой Гамай!
Как ошпаренный выскочил Никита из комнаты и побежал к своей кровати. Обрадовался, когда услышал сочувственные голоса товарищей по службе:
— Ну что? Погладил против шерсти фельдфебель?
— Что это он на тебя набросился как ястреб?