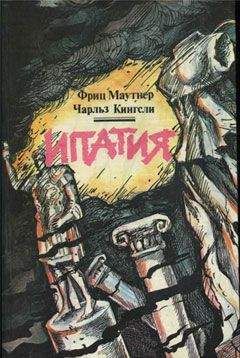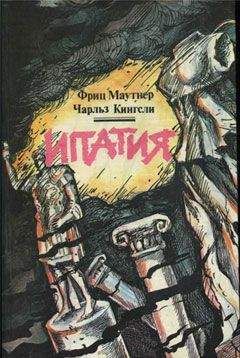Свою лекцию Ипатия закончила вдохновенными словами, полными надежды на возрождение Юлиановых истин.
«Бедный учитель нашей Академии не в состоянии даже воссоздать планы, посредством которых император Юлиан хотел передать потомству наследство греческого гения. Государство уже начинает рушиться и нет никого, кто бы защитил его границы. С севера и с востока расхищают варвары государственное наследство. Но его дух, дух великого императора, не должен погибнуть. И даже бедный преподаватель нашей Академии имеет право поставить целью своей жизни поиск Юлиановой критики так называемого Нового завета, обнародование ее и продолжение, по мере сил и возможности. Эту работу возложила на себя я и не ожидаю награды иной, чем была награда императора Юлиана».
Само собой разумеется, что некоторые студенты, а среди них и знакомая нам четверка, проводили молодую женщину, которой могла угрожать какая-либо опасность, на протяжении тех нескольких сот шагов, отделявших ее от дома. Почтительно, на приличном расстоянии, но достаточно близко, чтобы помешать оскорблению, продвигались они вслед за Ипатией.
Так же прошла и вторая лекция в воскресенье после выборов.
Именно в этот день новый архиепископ произнес свою первую проповедь в соборе. И он был немало оскорблен недостаточной численностью прихожан. Правда, чиновничество было представлено почти полностью, знатнейшие семейства занимали свои обычные места, а сзади теснились лишь старухи и члены рабочих союзов. Гремя своим прекрасным голосом под церковными сводами, Кирилл не мог не подумать, что, кроме этих старух, никто не пришел на его проповедь по собственной воле. Недовольный, окончил он свои наставления, недовольный, он принял в алтаре поздравления клира. «Это должно было быть иначе», было единственной мыслью, которую в разных формах высказывал он чиновникам и духовенству. Когда со своей пышной свитой хотел он отправиться из портала собора через портовую площадь к своему дворцу, дорогу ему пересек поток молодых людей высшего общества, которые, оживленно разговаривая, выходили из здания Академии. На вопросительный взгляд архиепископа его секретарь Гиеракс ответил, что это – слушатели язычницы Ипатии, оскверняющей воскресенья своей критикой христианства и имеющей успех, неслыханный на протяжении всей истории человеческой мысли. В этот момент, когда два заговорившихся студента даже толкнули Кирилла, на пороге аудитории появилась сама Ипатия, прямая, строгая и гордая, как на кафедре, покрывшая прекрасную голову длинной черной шелковой накидкой. Неподалеку от нее шло около тридцати студентов, внимательно, но молчаливо, как личная охрана. Из нескольких сотен ртов вылетело короткое «ура», и, с легким поклоном, Ипатия, сопровождаемая своей стражей, завернула за угол академической постройки.
Архиепископ Кирилл остановился, как бы желая смиренно пропустить поток молодежи. Но его гладкое лицо покрылось желтоватой краской, и секретарь прошептал своему соседу:
– Да! Еще ее критику он, может быть, ей и простил бы, но такого успеха – никогда!
Глава V
НАМЕСТНИК ЦЕЗАРЯ И БОГА
После выборов архиепископа прекрасная Александрия стала ареной всевозможных битв, разыгравшихся то на городских улицах, то в письмах и донесениях, направлявшихся из областной столицы в Константинополь и в обоих случаях одинаково горячо интересовавших все население, два первых лица города, наместник и архиепископ, спорили о том, кому править Александрией.
Более образованная часть населения (как язычники, так и христиане) стояла на стороне уполномоченного императора. Деды теперешних граждан были свидетелями незначительного положения и скромного образа жизни первых александрийских епископов. Это были простые защитники христианской бедноты, честные, бесстрашные и прямодушные люди, ведущие дела своих притесняемых единоверцев, произносившие проповеди в пользу благотворительности или общинной кассы, отдававшие отчет в своих расходах, не имевшие, наконец, как беднейшие среди бедных, ничего своего, кроме нагого тела, которое они ежедневно готовы были отдать своим преследователям во имя будущего небесного царства. Городской знати вовсе не нравилось, что эти голодающие представители народа постепенно превращались в гордых и богатых попов, которые, не думая об облегчении нужд бедных и бесприютных, занялись оспариванием положения императорского наместника. Как было сказано выше, александрийское общество в душе было на стороне наместника Ореста, но – так или иначе – оно было христианским, и в конце концов в каждом конфликте приходилось обращаться к представителю церкви.
По сравнению с сорокалетним Кириллом, преимущества оказались не на стороне шестидесятилетнего наместника Ореста. Новый архиепископ, местный уроженец, был деятелен и фанатичен. Орест не был египтянином. Он происходил из знатнейшего и богатейшего коринфского семейства, быстро сделал карьеру в нескольких прибрежных городах Малой Азии, а затем в военном министерстве Константинополя и, наконец, в сравнительно молодом возрасте, стал провинциальным управителем, а затем и пожизненным наместником всего Египта. Он любил страну, в свободные часы предавался археологическим изысканиям и не усердствовал чрезмерно в работе. Текущие дела решали его чиновники, а он аккуратно подписывал все, что подавалось на подпись. В течение двадцати лет правления он ни разу не был особенно озабочен судьбами своей провинции. Он сумел лучше большинства своих предшественников блюсти правосудие, а в кротости и человечности превзойти всех. Главное было то, что в Константинополе им были довольны и ни разу не предлагали просить отставки вследствие «расстроенного состояния здоровья». Он знал двор и столицу. Там считалось лучшей та провинция, о которой меньше всего говорили, и его гордостью было сделать Египет лучшей провинцией римского государства. К тому же Орест отлично понимал, что кесарево надо отдавать кесарю. Непрерывное существование римского государства было для него само собой разумеющимся основанием, на котором покоилась его жизнь и наличие неисчислимых миллионов. Император мог быть безумным убийцей или человеколюбивым философом, – для Ореста это ничего не меняло в существе государства. Упадет ли в одном случае несколько сот голов, или столько же сот людей в другом случае будут награждены за свои добродетели, ему было совершенно безразлично. Это ничего не меняло в идее государства, а главное – в том могучем государственном механизме, в котором он – наместник Египта – являлся далеко не последней частью. Все могло идти вкривь и вкось, за четыреста лет царствования не было дня, чтобы в каком-нибудь уголке неизмеримого государства не было войны или революции, могущество и величие Рима продолжало невредимо и неизменно править над всей цивилизованной частью мира. Священное римское государство давало возможность всем своим гражданам, – а прежде всего избранному греческому народу, – исполнять назначение человека: умеренно наслаждаться жизнью, не забывая себя, служить государству и заниматься искусством и наукой.
Конечно, семейство Ореста уже в течение двух поколений было христианским. Только в продолжение краткого Царствования Юлиана приносило оно жертвы старым богам. Орест был христианином так же, как по праздничным дням он надевал свой мундир. Он причислял христианство просто к числу своих обязанностей, безразличных обязанностей правительства. Он охотно не пошел бы в воскресенье в церковь, если бы там, в его удобной ложе не дремалось еще спокойней, чем в рабочем кабинете. В его служебном помещении ему все-таки могли помешать, а в церкви во время проповеди это было запрещено законом.
Предыдущий архиепископ с его кровавыми преследованиями инакомыслящих был противен гуманному чиновнику. Но в конце концов это были внутренние дела церкви, в которые государственный человек никогда не желал вмешиваться. Если у этих христианских партий такие несговорчивые боги, то пускай себе они борются друг с другом.
И христианский губернатор клялся Зевсом, что в этих попах сидит черт, распаляющий их друг против друга. Раньше было совсем по-другому: когда римские императрицы зарабатывали насморк, они приказывали попам своих религий, одному за другим, читать их молитвы и, наконец, – до следующей лихорадки – принимались верить в того Бога, после молитвы к которому могли целоваться со своими любовниками. Это доброе старое время!
По этой причине Орест был весьма неприятно задет, когда новый архиепископ, так чистосердечно перед выборами обещавший прочный союз, вдруг внезапно, как только из столицы пришло его утверждение, оказался честолюбивее и заносчивее своего грубого предшественника.
Прежде всего новый архиепископ на основании каких-то, никому, однако, недоступных документов, отобрал для себя ложу наместника в соборе, а ему предоставил место напротив, которое было и уже, и темнее. В первый раз в жизни Орест изменил своему правилу – не спорить из-за высшего места. Он написал официальную жалобу своему начальству и в любезных светских письмах доверился наиболее влиятельным дамам двора. Но ничего не помогло, ему пришлось уступить свою ложу. Лично он легко примирился бы с этой переменой, так как на новом месте можно было дремать с гораздо большим удобством, чем в прежней высокой и светлой ложе. Но теперь в нем был затронут чиновник, первый представитель цезаря, и он не мог понять, как легко поступились в столице иерархическим честолюбием. Он по-прежнему видел в цезаре высшего епископа всего государства и не мог понять, почему попы одного Бога должны быть важнее, чем жрецы трехсот остальных. Однако в Константинополе были, очевидно, другого мнения, легко идя на уступки в формальных спорах с представителями новой веры, и Орест был слишком хорошим чиновником, чтобы в конце концов не подчиниться, хотя бы и супротив своих убеждений.