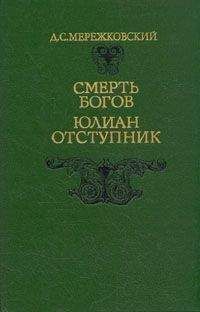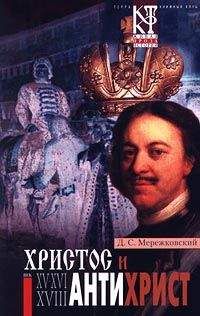Вдруг раздался внутри оглушительный и вместе с тем певучий звон. К небу поднялся торжествующий вопль народа.
— Веревок, веревок! За руки, за ноги!
С пением молитв и радостным хохотом, из дверей храма толпа на веревках повлекла вниз по ступеням звеневшее, серебряное, бледное тело богини, Матери богов — творение Скопаса.
— В огонь, в огонь!
И ее потащили по грязной площади.
Монах-законовед провозглашал отрывок из недавнего закона императора Констана, брата Конст анция:
«Cesset superstitio, sacrificiorum aboleatur insania» — «Да прекратится суеверие, да будет уничтожено безумие жертвоприношений».
— Не бойтесь ничего! Бейте, грабьте все в бесовском капище!
Другой, при свете факелов, прочел в пергаментном свитке выдержку из книги Фирмика Матерна «De errore prof anarum religionum».
«О заблуждении религиозных невежд» (лат.).
«Святые Императоры! Придите на помощь к несчастным язычникам. Лучше спасти их насильно, чем дать погибнуть. Срывайте с храмов украшения: пусть сокровища их обогатят вашу казну. Тот, кто приносит жертву идолам, да будет исторгнут с корнем из земли. Убей его, побей камнями, хотя бы это был твой сын, твой брат, жена, спящая на груди твоей».
Над толпою проносился крик:
— Смерть, смерть олимпийским богам1 Огромный монах с растрепанными черными волосами, прилипшими к потному лбу, занес над богиней медный топор и выбирал место, чтобы ударить.
Кто-то посоветовал:
— В чрево, в бесстыжее чрево!
Серебряное тело гнулось, изуродованное. Удары звенели, оставляя рубцы на чреве Матери богов и людей, Деметры-Кормилицы.
Старый язычник закрыл лицо одеждой, чтобы не видеть кощунства; он плакал и думал, что теперь все кончено-мир погиб: Земля-Деметра не захочет родить людям колоса.
Отшельник, пришедший из пустыни Месопотамии, в овечьей шкуре, с посохом и выдолбленной тыквой вместо посуды, в грубых сандалиях, подкованных железными гвоздями, подбежал к богине.
— Сорок лет не мылся я, чтобы не видеть собственной наготы и не соблазниться. А как придешь, братья, в город, так всюду только и видишь голые тела богов окаянных. Долго ли терпеть бесовский соблазн? Всюду поганые идолы: в домах, на улицах, на крышах, в банях, под ногами, над головой. Тьфу, тьфу, тьфу! Не отплюешься!..
И с ненавистью старик ударил сандалией в грудь Кибелы. Он топтал эту голую грудь, и она казалась ему живой; он хотел бы раздавить ее под острыми гвоздями тяжелых сандалий. Он шептал, задыхаясь от злости:
— Вот тебе, вот тебе, гнусная, голая! Вот тебе, сука!..
Под ногой его уста богини по-прежнему хранили спокойную улыбку.
Толпа подняла ее на руки, чтобы бросить в костер.
Пьяный ремесленник, с дыханием, пропитанным чесноком, плюнул ей прямо в лицо.
Костер был огромный; в него свалили все деревянные рыночные лавки, оскверненные жертвенной водой. Высоко над толпой тихие звезды мерцали сквозь дым.
Богиню бросили в костер, чтобы расплавить серебряное тело. И опять, с нежным, певучим звоном, ударилась она о пылающие головни.
— Слиток в пять талантов. Тридцать тысяч маленьких серебряных монет. Половину пошлем императору на жалование солдатам, другую — голодным. Кибела принесет, по крайней мере, пользу народу. Из богини-тридцать тысяч монет для солдат и для нищих.
— Дров! Дров!
Пламя вспыхнуло ярче, и всем стало веселее.
— Посмотрим, вылетит ли бес. Говорят, в каждом идоле по бесу, а в богинях — так по два и по три…
— Как начнет плавиться, сделается лукавому жарко,он и выпорхнет из поганого рта, в виде кровавого или огненного змия…
— Нет, надо было раньше перекрестить, а то, пожалуй, и в землю ужом уползет. В позапрошлом году разбивали капище Афродиты; кто-то и брызни святой водой.
И что же бы вы думали? Из-под одежды выскочили крохотные бесенята. Как же? Сам видел. Смрадные, черные, в белых-то складках, мохнатые. И запищали, как мыши.
А когда Афродите голову отбили, так из шеи главный выскочил, вот с какими рогами, а хвост облезный, голый, без шерсти, как у паршивого пса…
Кто-то недоверчиво заметил:
— Не спорю. Может быть, вы и видели бесов, только, когда разбивали намедни в Газе идола Зевса, то внутри и бесов не было, а такая пакость, что стыдно сказать.
С виду-важный, страшный: слоновая кость, золото, в руках молнии. А внутри-паутина, крысы, пыль, ржавые перекладины, рычаги, гвозди, вонючий деготь и еще черт знает, какая дрянь. Вот вам и боги!
Ямвлик, бледный, как полотно, с потухшими глазами, взял за руку Юлиана и отвел его в сторону.
— Посмотри, видишь — двое? Это доносчики Констанция. Твоего брата Галла увезли уже в Константинополь под стражей. Берегись! Сегодня же пошлют донос…
— Что делать, учитель? Я привык. Знаю: они давно следят за мной…
— Давно?.. Зачем же ты мне не сказал?
И рука его дрогнула в руке Юлиана.
— Чего они шепчутся? Смотрите-уж не безбожники ли это? Эй, старикашка, пошевеливайся, дров неси! — закричал им оборванец, который чувствовал себя победителем.
Ямвлик шепнул Юлиану:
— Будем презирать и покоримся. Не все ли равно?
Богов не может оскорбить людская глупость.
Божественный взял полено из рук христианина и бросил в костер. Юлиан не верил глазам. Но доносчики смотрели на него с улыбкой, пытливо и пристально.
Тогда слабость, привычка— к лицемерию, презрение к себе и к людям, злорадство овладели душой Юлиана. Чувствуя за спиной своей взоры доносчиков, подошел он к связке дров, выбрал самое большое полено и после Ямвлика бросил его в костер, на котором уже таяло тело искалеченной богини. Он видел, как расплавленное серебро струилось по лицу ее, подобно каплям предсмертного пота; а на устах по-прежнему была непобедимая, спокойная улыбка.
— Посмотри на людей в черных одеждах, Юлиан. Это вечерние тени, тени смерти. Скоро не будет ни одной белой одежды, ни одного куска мрамора, озаренного солнцем. Кончено!
Так говорил юный софист Антонин, сын египетской пророчицы Созипатры и неоплатоника Эдезия. Он стоял с Юлианом на большой высокой площади перед жертвенником Пергамским, залитой солнцем, окруженной голубым небом. На подножии храма была изваяна Гигантомахия, борьба титанов и богов: боги торжествовали; копыта крылатых коней попирали змеевидные ноги титанов.
Антонин указал Юлиану на изваяния.
— Олимпийцы победили древних богов; теперь олимпийцев победят новые боги. Храмы будут гробницами…
Антонин был стройный юноша; некоторые очертания тела и лица его напоминали Аполлона Пифийского; но уже много лет страдал он неизлечимым недугом; странно было видеть это чисто эллинское, прекрасное лицо желтым, исхудалым, с выражением тоски, новой болезни, чуждой лицам древних мужей.
— Об одном молю я богов, — продолжал Антонин,чтобы не видеть мне этой варварской ночи, чтобы раньше умереть. Риторы, софисты, ученые, поэты, художники, любители эллинской мудрости, все мы — лишние. Опоздали. Кончено!
— А если не кончено? — проговорил Юлиан тихо, как будто про себя.
— Нет, кончено! Мы больные, слишком слабые…
Лицо девятнадцатилетнего Юлиана казалось почти таким же худым и бледным, как лицо Антонина; выдающаяся нижняя губа придавала ему выражение угрюмой надменности; густые брови хмурились со злобным упрямством; около некрасивого, слишком большого носа выступали ранние морщины; глаза блестели сухим, лихорадочным блеском. Он был одет, как христианские послушники.
Днем, как прежде, посещал церкви, гробницы мучеников, читал с амвона Писание, готовился к пострижению в монахи. Иногда лицемерие это казалось ему тщетным: он знал, какая судьба постигла Галла; знал, что брату не миновать смерти. И сам, день за днем, месяц за месяцем, жил в постоянном ожидании смерти.
Ночи проводил в книгохранилище Пергамском, где изучал творения знаменитого врага христиан, ритора Либания; посещал уроки греческих софистов — Эдезия Пергамского, Хризанфия Сардийского, Приска из Феспротии, Евсевия из Минда, Проэрезия, Нимфидиана.
Они говорили ему о том, что он уже слышал от Ямвлика: о триединстве неоплатоников, о священном восторге.
— Нет, все это не то, — думал Юлиан, — главное скрывают они от меня.
Приск, подражавший Пифагору, пять лет провел в молчании; не ел ничего, имеющего жизнь; не употреблял ни шерстяной ткани, ни кожаных сандалий; ткань одежды его была растительной, так же как пища; он носил пифагорейскую хламиду из чистого белого льна, сандалии из пальмовых ветвей. «В наш век, — говорил он, — главное — уметь молчать и думать о том, чтобы погибнуть с достоинством». И Приск с достоинством, презирая всех, ждал того, что считал гибелью, — победы христиан над эллинами.
Хитрый и осторожный Хризанфий, когда речь заходила о богах, подымал глаза к небу, уверяя, что не смеет о них говорить, так как ничего не знает, а что прежде знал — забыл и другим советует забыть; с магии, о чудесах, о видениях и слышать не хотел, утверждая, что все это обманы, воспрещенные законами римской империи.