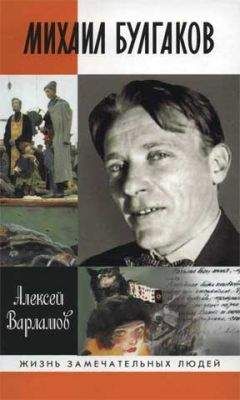Тут все сказано не в бровь, а в глаз. В том числе и про жену, которую Булгаков склонял к принятию наркотика, вернее, пытался лечить, снять с помощью морфия боль, и Бог знает, к чему бы это могло привести, но Тасе повезло: ни опия в 1913-м, ни морфия в 1917-м ее организм не воспринял.
«Т. К [9] Мне он тоже морфий впрыскивал…
Л. П. Вам?!
Т. К. Да. У меня появились страшные боли под ложечкой, и он вспрыснул» [87; 48], – рассказывала она Паршину.
Примечательно, что именно эта причина (а не безумный зуд после прививки) фигурирует в «Морфии»:
«Вчера ночью интересная вещь произошла. Я собирался ложиться спать, как вдруг у меня сделались боли в области желудка. Но какие! Холодный пот выступил у меня на лбу.
Все-таки медицина – сомнительная наука, должен заметить.
Отчего у человека, у которого нет абсолютно никакого заболевания желудка или кишечника (аппенд., напр.), у которого прекрасная печень и почки, у которого кишечник функционирует совершенно нормально, могут ночью сделаться такие боли, что он станет кататься по постели?
Со стоном добрался до кухни, где ночует кухарка с мужем своим, Власом. Власа отправил к Анне Кирилловне. Та ночью пришла ко мне и вынуждена была впрыснуть мне морфий. Говорит, что я был совершенно зеленый…»
Но вернемся к беседе Лаппа с Паршиным:
«Л. П. Ну! Расскажите, какие ощущения? Интересно!
Т. К. Ощущения? Знаете, у всех, наверное, разные. Он говорил, что замечательные, что куда-то плывешь… А у меня от морфия закружилась голова, и куда-то я упала, потом заснула. А проснулась, у меня рвота началась. Так что на меня морфий отвратительно действует. Вот, то же самое, кокаин мы пробовали нюхать.
Л. П. Это еще в Киеве?
Т. К. Да, в 1913 году. Я отвратительно себя чувствовала после этого» [87; 49].
В сентябре 1917-го Булгакову удалось перевестись из Никольского в Вязьму. По сравнению с селом жизнь в уездном городе могла показаться роскошью, и опять-таки в «Морфии» эта тема прозвучит:
«Начавшаяся вьюга подхватила меня, как клочок изорванной газеты, и перенесла с глухого участка в уездный город. Велика штука, подумаешь, уездный город? Но если кто-нибудь подобно мне просидел в снегу зимой, в строгих и бедных лесах летом, полтора года, не отлучаясь ни на один день, если кто-нибудь разрывал бандероль на газете от прошлой недели с таким сердечным биением, точно счастливый любовник голубой конверт, ежели кто-нибудь ездил на роды за 18 верст в санях, запряженных гуськом, тот, надо полагать, поймет меня.
Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за электричество!
И вот я увидел их вновь, наконец, обольстительные электрические лампочки! Главная улица городка, хорошо укатанная крестьянскими санями, улица, на которой, чаруя взор, висели – вывеска с сапогами, золотой крендель, изображение молодого человека со свиными и наглыми глазками и с абсолютно неестественной прической, означавшей, что за стеклянными дверями помещается местный Базиль, за 30 копеек бравшийся вас брить во всякое время, за исключением дней праздничных, коими изобилует отечество мое».
В 1927 году Булгаков описывал перемену в жизни своего героя доктора Владимира Михайловича Бомгарда (того самого, кому несчастный Поляков напишет письмо с просьбой о помощи и кому достанутся его «записки покойника») очень убедительно и живописал уездный город самыми добродушными, хотя и маскировавшими иронию красками, но десятью годами раньше для человека, страдавшего от морфинизма, главное было не бриться за тридцать копеек у Базиля, а находить лекарство, жизнь без которого превращалась в пытку.
...Твой верный друг — аптека,
Сулящая гашиш, эфир, морфин... —
Писал одержимый тем же недугом Брюсов.
«Не „тоскливое состояние“, а смерть медленная овладевает морфинистом, лишь только вы на час или на два лишите его морфия. Воздух не сытный, его глотать нельзя… в теле нет клеточки, которая бы не жаждала… Чего этого нельзя ни определить, ни объяснить. Словом, человека нет. Он выключен. Движется, тоскует, страдает труп. Он ничего не хочет, ни о чем не мыслит, кроме морфия. Морфия!» – писал Булгаков в рассказе.
В Вязьме доставать вожделенное средство оказалось проще, чем в Никольском, что и стало главным ее преимуществом, хотя ненадолго. По аптекам ходила жена, чьи впечатления от уездного городка с обольстительными электрическими лампочками сильно рознились от восторженных оценок доктора Бомгарда.
«Вязьма – такой захолустный город. Дали нам комнату. Как только проснулись – „иди ищи аптеку“. Я пошла, нашла аптеку, приношу ему. Кончилось это – опять надо. Очень быстро он его использовал. Ну, печать у него есть – „Иди в другую аптеку, ищи“. И вот я в Вязьме там искала, где-то на краю города еще аптека какая-то. Чуть ли не три часа ходила. А он прямо на улице стоит, меня ждет. Он такой страшный был… Такой он жалкий был, такой несчастный. И одно меня просил: „Ты только не отдавай меня в больницу“» [87; 51]. Много лет спустя о том же самом – не отдавать его, врача, в больницу – он попросит свою третью жену Елену Сергеевну.
А вот в рассказе герой в больницу попадет, отправится в нее добровольно, но потом не выдержит и сбежит. Больница Булгакова спасти не могла, это был способен сделать только очень близкий человек. В жизни – жена, а в рассказе у героя жены нет: та, что женой когда-то была и которую герой очень сильно любил – оперная певица Амнерис, останется в прошлом («Ту я забыл. Забыл. И все-таки спасибо за это морфию»), в настоящем же есть любовница – фельдшерица-акушерка Анна Кирилловна, муж которой попал в немецкий плен. «Анна К. стала моей тайной женой. Иначе быть не могло никак. Мы заключены на необитаемый остров», – заносит в свои записки доктор Поляков. Много позднее начало этого фрагмента отзовется фразой из «Мастера и Маргариты»: «И скоро, очень скоро стала эта женщина моей тайной женой». В каком-то смысле психологический рисунок отношений между тяжко больным доктором Сергеем Васильевичем Поляковым и его возлюбленной Анной, с одной стороны, и душевно больным Мастером, у которого нет имени, и его тайной женой Маргаритой – с другой, совпадет.
Момент этот существенный, потому что Татьяна Николаевна Лаппа ни в одном из произведений Булгакова, помимо нескольких фельетонов, не появится, если только не считать диалога между Мастером и Иванушкой Бездомным из «Мастера и Маргариты»:
«– С этой… ну… этой, ну… – ответил гость и защелкал пальцами.
– Вы были женаты?
– Ну да, вот же я и щелкаю… На этой… Вареньке, Манечке… нет, Вареньке… еще платье полосатое… музей… впрочем, я не помню».
«Морфий» – своего рода исключение. И хотя здесь у героя не жена, которая последовала за ним к месту его службы, а любовница-фельдшерица, и хотя этой фельдшерице, за которой Михаил Афанасьевич, по словам Татьяны Николаевны, слегка приударял, даже можно найти свой прототип, тем не менее ключевая фраза из «Морфия»: «…по правде говоря, эта женщина единственный верный, настоящий мой человек. И в сущности, она и должна быть моей женой» – безусловно может и должна быть отнесена в качестве скромного литературного памятника к Татьяне Николаевне Лаппа, которая «хотела все бросить и уехать. Но как посмотрю на него, какой он – „Как же я его оставлю? Кому он нужен?“» [87; 51].
Именно она была с Булгаковым рядом в самые тяжелые минуты, именно она терпела его раздражительность, озлобленность, перепады настроения. Но, повторим, в 1927 году, публикуя свой рассказ и с первой женой уже несколько лет назад расставшись, Булгаков заметал следы. Отчасти это нужно ему для интриги, его герой уезжает в глушь не по мобилизации, а бежит от любовной драмы, и оттого получается история с бунинскими, в духе «Митиной любви», интонациями. Но есть и более существенная причина.
Герой «Морфия» доктор Поляков пусть и вел дневник, но писателем не был. Михаил Афанасьевич был, и вот в этом ключевом пункте у него с Татьяной Николаевной ничего общего не нашлось. Читательница сентиментальных романов и на тот момент обыкновенная домохозяйка (в Никольском и в Вязьме она не работала, поскольку против был местный медицинский персонал), она была ему не интересна, не близка как собеседник и как подруга. В этом не было ее вины. Лаппа была хорошей женой врача, но – не писателя.
Надо отдать Татьяне Николаевне должное, в своих устных мемуарах она это честно признавала и в отличие от многих писательских жен никогда не преувеличивала своей роли в судьбе мужа. «Нет, он мне не давал [читать]. Или скрывал, или думал, что я дура такая и в литературе ничего не понимаю» [87; 48], – рассказывала она Леониду Паршину. А в разговоре с Мариэттой Чудаковой приводила слова писателя: «Я не хочу тебе читать. Ты очень впечатлительная, скажешь, что я болен» [142; 56]. Или другое свидетельство у Паршина: «Я просила, чтобы он дал мне почитать, но он говорит: „Нет. Ты после этого спать не будешь. Это бред сумасшедшего“. Показывал мне только. Какие-то там кошмары и вce…» [87; 48]