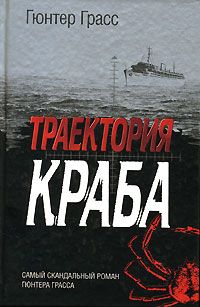Хотя в день катастрофы и на следующий день родился не я один, однако кроме единственного человека, родившегося 29 января, моих ровесников среди собравшихся в Дампе не нашлось. Присутствовали в основном люди пожилые, поскольку спасти детей практически не удалось. К младшему поколению можно было причислить лишь тогдашнего десятилетнего мальчика из Эльбинга, который теперь жил в Канаде и которого попечительский совет попросил выступить перед публикой с рассказом о подробностях своего спасения.
По вполне понятным причинам свидетелей тогдашней катастрофы остается все меньше. Если на встречу, состоявшуюся в 1985 году, приехало более пятисот спасенных и спасателей, то теперь их едва насчиталось две сотни, что побудило мать шепнуть мне на ухо во время часа поминовения: «Скоро никого из нас не останется в живых, кроме тебя. А ты вот написать не хочешь про все, что я тебе рассказывала».
А ведь это именно я задолго до ликвидации Стены переправил ей по тайным каналам книгу Хайнца Шёна, хотя и признаюсь, что сделал это, чтобы избавиться от ее допекавших меня упреков. А перед встречей в Дампе она получила от меня выпущенную издательством «Ульштайн» книжку в мягкой обложке, написанную тремя англичанами. Но и эта книжка — действительно, вполне объективная, но слишком уж бесстрастная — ей не понравилась: «Не хватает тут личного отношения. Сердца мало!» И однажды, когда я заехал к ней домой с коротким визитом, она сказала: «Вот, может, мой Конрадхен когда-нибудь про все напишет…»
Поэтому она и взяла его с собою в Дамп. Она пришла, нет, явилась на встречу в длинном, наглухо закрытом платье из черного бархата, которое контрастировало с ее короткими белыми волосами. Где бы она ни возникала, например за кофейным столиком, она всюду оказывалась в центре внимания. Особенно она притягивала к себе мужчин. Впрочем, как известно, так бывало всегда. Ее школьная подруга Йенни рассказывала о том, сколько мальчишек липло к ней в юные годы: она с детства пропиталась запахом костного клея, и, по-моему, даже в Дампе над нею витал этот дух.
Здесь ее окружали пожилые, одетые преимущественно в темно-синие костюмы мужчины, а она стояла среди них в черном, худая, жилистая. К этой седовласой мужской компании принадлежал бывший капитан-лейтенант, командовавший миноносцем T-36, экипаж которого спас несколько сотен человек, а также уцелевший офицер с затонувшего лайнера. Особенно хорошо запомнили мать члены команды с миноносца «Лёве». Мне даже показалось, что они ждали ее. Они окружили мать, у которой порою легким намеком проявлялись девичьи повадки, и не отпускали ее от себя. Я слышал, как она хихикала, или видел, как она становилась перед ними в позу, скрестив руки на груди. Но с ними она разговаривала уже не обо мне, родившемся в минуты гибели корабля, теперь речь шла о Конни. Мать представила пожилым господам моего сына так, будто это был ее собственный ребенок; я же оставался в стороне, мне не очень хотелось расспросов ветеранов экипажа «Лёве», тем более не хотелось поздравлений.
Наблюдая со стороны, я отметил, как Конни, которого я считал довольно застенчивым, весьма уверенно справляется с той ролью, что была уготована ему матерью; отвечал он сдержанно, но четко, задавал вопросы сам, внимательно слушал, отваживался по-мальчишески улыбнуться и даже позировал для фотографий. В свои без малого пятнадцать лет, которые исполнятся ему в марте, он совсем не выглядел ребенком и, видимо, созрел, по мнению матери, настолько, чтобы быть целиком и полностью посвященным в пережитое бедствие и стать — что и произойдет позднее — сказителем легенды о погибшем корабле.
Отныне все закрутилось вокруг него. Хотя на встрече среди уцелевших присутствовал человек, родившийся за день до гибели «Вильгельма Густлоффа», и ему, как и мне, Хайнц Шён лично подарил свою книгу, а обеих матерей пригласили на сцену и поздравили, вручив по букету цветов, однако мне показалось, что все это происходит лишь для того, чтобы преисполнить его чувством долга. На него возлагались отныне надежды. С ним связывались ожидания на будущее. И уцелевшие в катастрофе выражали уверенность, что он их не разочарует.
Мать нарядила его в темно-синий костюм, заставила надеть галстук, какие носят студенты солидных колледжей. В очках, с кудрявыми локонами, он напоминал одновременно конфирманта и архангела. Он уже выглядел так, будто принял на себя некую миссию, будто ему вскоре предстоит провозгласить некую весть, будто его посетило озарение.
Не знаю, кто предложил, чтобы на поминальном богослужении, проведенном в тот час, когда торпеды поразили корабль, именно Конни ударил в висящую около алтаря рынду, которую польские водолазы достали в конце семидесятых с кормовой части верхней палубы затонувшего лайнера. Сейчас, по случаю встречи, команда спасательного судна «Szkwal» передала эту находку в знак польско-германского примирения. Однако затем честь произвести тройной удар молоточком по рынде в конце поминальной службы была предоставлена все-таки господину Шёну.
Помощнику казначея на «Вильгельме Густлоффе» было на день катастрофы всего восемнадцать лет. Не стану умалчивать, что ему, собравшему и изучившему практически все материалы, связанные с гибелью лайнера, было выражено в Дампе не слишком много благодарности. Встреча-мемориал открывалась его докладом «Гибель Вильгельма Густлоффа — глазами русских»; по ходу доклада он дал понять, что для своих разысканий неоднократно посещал Советский Союз и даже встречался с боцманом подлодки C-13, более того, поддерживает дружеские связи с тем самым Владимиром Курочкиным, который по приказу командира отправил в цель три торпеды; есть даже фотография, запечатлевшая его рукопожатие с этим пожилым человеком, который, как позднее сдержанно заметил Хайнц Шён, «тоже потерял боевых товарищей».
После доклада его избегали. Многие слушатели сочли его русофилом. Для них война никогда не кончалась. Для них русские оставались Иванами, а три торпеды — орудием убийства. А для Владимира Курочкина безымянный потопленный корабль был до отказа забит фашистами, напавшими на его родину и оставлявшими за собою при отступлении выжженную землю. Лишь из рассказа Хайнца Шёна он узнал, что после торпедной атаки погибли более четырех тысяч детей, которые утонули, замерзли или были увлечены водоворотом от пошедшего на дно судна. Эти дети еще долгое время снились боцману в ночных кошмарах.
Возможно, обиду Хайнца Шёна отчасти смягчило то, что ему была предоставлена честь пробить в рынду, поднятую с затонувшего корабля. А мой сын опубликовал для всего мира на своем сайте фотографию, увековечившую торпедиста рядом с летописцем «Густлоффа», прокомментировав это обстоятельство словами о том, что трагедия может сблизить народы; он не преминул описать историю создания снайперской подлодки, делая упор на «немецкое качество» судостроительных работ, и не удержался от замечания: дескать, только благодаря немецким конструкторам этой подлодки советские моряки сумели добиться успеха в районе Штольпебанк.
А что я? После поминального богослужения я сбежал. Бродил в темноте по берегу моря. Одиноко, бездумно. Был штиль, только вяло плескались бессловесные волны Балтики.
Старика это гложет. Собственно, говорит он, именно его поколение должно было поведать о страданиях беженцев из Восточной Пруссии: о потоках людей, движущихся по зимним дорогам на Запад, о закоченевших трупах в сугробах, о людях, погибавших в придорожных кюветах или в проломленном льду, когда замерзший залив Фришес хафф начинал крошиться под бомбами или трескаться под тяжестью перегруженных конных повозок, но, несмотря на это, все больше людей, начиная от Хайлигенбайля, срывались с места, гонимые ужасом мести, который несли русские, и шли по бесконечным снежным полям… Беженцы… Белая смерть… О таких страданиях, говорит он, нельзя было молчать все эти годы только потому, что важнее казалось признание собственной огромной вины и горячее покаяние, нельзя было отдавать то, что замалчивалось, на откуп правым и реваншистам. Это упущение безмерно…
И вот теперь исписавшийся Старик полагает, что нашел в моем лице, как он выразился, своего «заместителя», который сумеет поведать о вступлении советской армии па территорию Рейха, о захвате Неммерсдорфа и последствиях того военного эпизода. Я и впрямь подыскиваю слова. Но не Старик, а мать понуждает меня. И только ради нее вмешался сам он в эту историю, понуждаемый ею понудить меня, будто писать можно только по принуждению, будто ничто не может появиться без матери на чистом листе бумаги.
Она казалась ему существом непостижимым, недоступным для какого-либо оценочного суждения. Ему хотелось бы, чтобы его Тулла продолжала мерцать ровным рассеянным светом, поэтому теперь Старик разочарован. Никогда, говорит он, я не мог себе представить, чтобы Тулла Покрифке, уцелев, скатилась бы до такой банальности, как партийная активистка или ударница производства. Скорее уж от нее можно было ожидать какого-либо анархического выверта, иррационального поступка, вроде ничем не мотивированного террористического акта с бомбой, или же с ней могло произойти что-либо совсем другое, вроде холодного и страшного прозрения. В конце концов, сказал он, ведь именно Тулла, будучи в годы войны, когда все вокруг притворялись слепыми, еще совсем девочкой, обнаружила неподалеку от зенитной батареи под Кайзерхафеном белесую груду и прямо сказала, что это человеческие кости: «Это же гора костей!»[23]