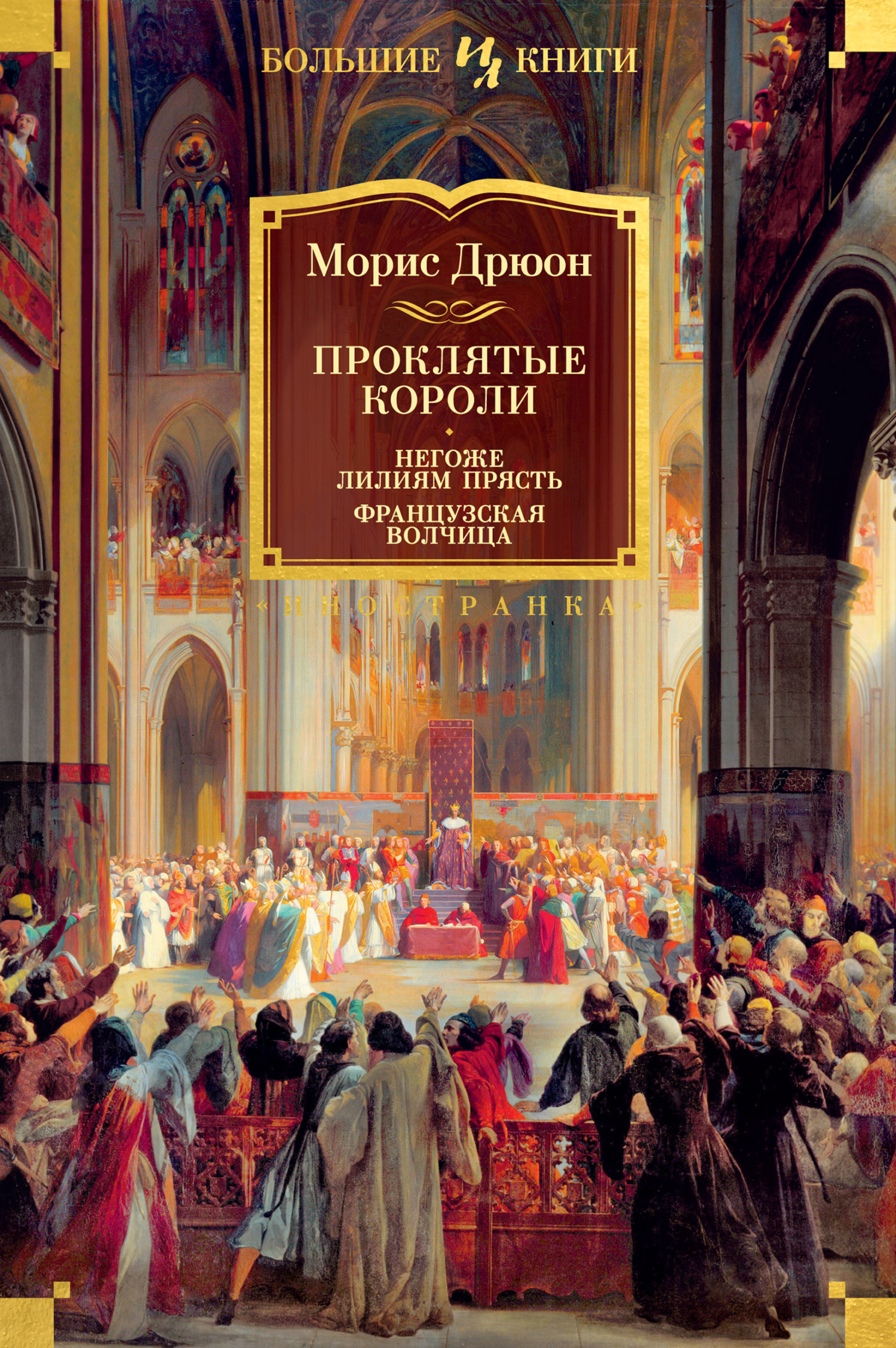принялась за еду со здоровым аппетитом восемнадцатилетней женщины, еще до рассвета пустившейся в дорогу.
Но если Толомеи умел легко и непринужденно беседовать с самыми знатными баронами и пэрами Франции, с прославленными легистами и архиепископами, он уже давно отвык говорить с женщинами, особенно с такими молоденькими. Поэтому разговор не вязался. Старый банкир с восторгом глядел на свою новоявленную племянницу, которая свалилась к нему как снег на голову и которая с каждой минутой нравилась ему все больше и больше.
«Какая жалость, – думал он, – что приходится отправлять ее в монастырь! Если бы Гуччо не находился в заключении вместе с конклавом, я переправил бы это прелестное дитя к нему в Лион; но что она будет делать там одна, без помощи и поддержки? А ведь, судя по тому, как идут дела, кардиналы не склонны сдаваться без боя!.. А может быть, оставить ее здесь, при себе, и ждать возвращения Гуччо? Это, пожалуй, было бы мне еще приятнее. Но нет, нельзя: я ведь просил Бувилля о милости; как же я покажусь теперь ему на глаза, отказавшись от его услуг? А что, если настоятельница действительно сродни де Крессе и этим болванам придет в голову осведомиться у нее о сестре!.. Нет, нет, пусть хоть я в этом деле не потеряю головы по примеру Гуччо. Отправлю ее в монастырь…»
– …но не на всю жизнь, – произнес он вслух. – И речи не может идти о вашем пострижении. Согласитесь на временное пребывание в обители и постарайтесь не грустить; а когда родится ребенок, обещаю, что сам устрою ваши дела, и вы будете жить счастливо с моим племянником.
Мари схватила руку банкира и поднесла ее к губам; старик-ломбардец почувствовал смущение; доброта не входила в число его добродетелей, да и по самому характеру своих занятий он не привык к подобным проявлениям благодарности.
– А теперь пора передать вас на руки графа Бувилля, – произнес он.
От Ломбардской улицы до дворца Сите рукой подать. Мари, шедшая рядом с Толомеи, проделала этот путь в состоянии восторженного изумления. Она впервые попала в большой город. Толпы людей под ярким июльским солнцем, красота зданий, множество лавок, сверкающие витрины ювелиров – все это показалось ей какой-то прекрасной феерией. «Какое счастье, просто счастье, – думала она, – жить здесь, и какой чудесный человек дядя моего Гуччо, и как хорошо, что он покровительствует нам! О да, я без слова жалобы перенесу свое заточение в монастыре!» Они прошли через мост Менял и углубились в Торговую галерею, забитую лотками с товарами.
Только ради удовольствия услышать еще раз слова благодарности и увидеть улыбку Мари, открывавшую белоснежные зубки, Толомеи не удержался и купил ей суму на пояс, расшитую мелким жемчугом.
– Это от имени Гуччо. Теперь я его вам заменяю, – пояснил он, прикинув в уме, что зря не обратился к оптовому торговцу, у которого смог бы приобрести подарок за полцены.
Наконец они поднялись по широкой лестнице во дворец. Итак, только потому, что Мари согрешила с юным ломбардцем, она смогла проникнуть в королевское жилище, куда даже помыслить не смели попасть ее отец и братья, несмотря на свое рыцарство, насчитывавшее уже триста лет, и на услуги, оказанные ими королям на поле брани.
Во дворце царил тот особый беспорядок, когда каждый изображает из себя важную персону, та лихорадочная суета, которая немедленно начиналась там, где появлялся Карл Валуа. Пройдя по бесчисленным галереям, коридорам и анфиладам (причем Мари чувствовала, что с каждым шагом словно уменьшается в росте), Толомеи и его спутница достигли наиболее уединенной части дворца, расположенной позади часовни Сент-Шапель и выходившей на Сену и на Еврейский остров. Страж из дворян в воинских доспехах преградил им путь. Ни одна живая душа не смела проникнуть в покои королевы Клеменции без разрешения хранителей чрева. Пока слуги разыскивали графа де Бувилля, Толомеи и Мари отошли к окну.
– Вот, посмотрите, здесь сожгли тамплиеров, – пояснил Толомеи, указывая на остров.
Наконец появился толстяк Бувилль, тоже в полном воинском снаряжении, и решительным шагом, словно шел на штурм крепости, направился к посетителям; под тонкой сталью кольчуги подрагивало его объемистое брюшко. Движением руки он отстранил стража. Толомеи и Мари прошли сначала через комнату, где, сидя в кресле, мирно дремал сир де Жуанвиль. Двое его конюших тут же в сосредоточенном молчании играли в шахматы. Затем Бувилль ввел посетителей в свои собственные покои.
– Оправилась ли мадам Клеменция от своего горя? – спросил Толомеи у Бувилля.
– Плачет она теперь не так часто, – ответил толстяк, – вернее, не показывает нам своих слез, старается их удержать. Но она по-прежнему сражена смертью государя. Да и здешняя жара ей вредна, у нее то и дело бывают головокружения и обмороки.
«Значит, королева Франции здесь, совсем рядом! – думала Мари со жгучим любопытством. – А вдруг меня ей представят? Осмелюсь ли заговорить с ней о Гуччо?»
Ей пришлось присутствовать при бесконечно долгой беседе – из которой, впрочем, она не поняла ни слова – между банкиром и бывшим камергером Филиппа Красивого. Называя какие-то имена, оба понижали голос, а то и отходили в сторону, и Мари старалась не прислушиваться к их шепоту.
Граф Пуатье должен был приехать завтра из Лиона. И теперь Бувилль, так страстно ждавший его возвращения, уже и сам не знал, к добру это или нет. Ибо его высочество Валуа решил немедленно отправиться навстречу Филиппу вместе с графом де ла Маршем; и Бувилль, подведя банкира к окну, указал ему на двор, где шли спешные приготовления к отъезду. С другой стороны, герцог Бургундский, обосновавшийся в Париже, приставил стражу из собственных дворян к своей племяннице, крошке Жанне Наваррской. Королевская казна окончательно опустела. Недобрый ветер мятежа реет над столицей, и борьба за регентство грозит страшными бедами. По мнению Бувилля, следовало бы назначить матерью-регентшей королеву Клеменцию, а ей придать Королевский совет в составе Валуа, Пуатье и герцога Бургундского.
Хотя Толомеи слушал с интересом рассказ Бувилля о дворцовых интригах, он все же не раз пытался прервать его сетования и заговорить о цели своего визита.
– Конечно, конечно, мы позаботимся об этой девице, – рассеянно отвечал Бувилль и тут же снова заводил речь о политике.
Получает ли Толомеи сведения из Лиона? Камергер дружески взял банкира за плечо и зашептал ему что-то прямо в ухо. Как? Гуччо заперли вместе с Дюэзом и всем конклавом? Ну и ловкий малый! А как полагает Толомеи, можно ли сообщаться с его племянником? Если ему удастся получить от него весточку или представится случай передать ему записку, пусть