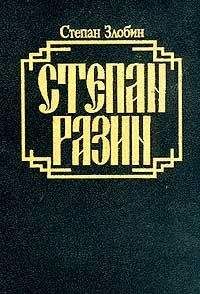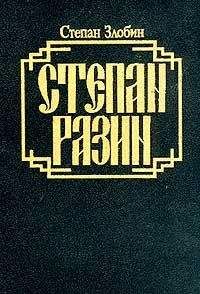Вокруг двора Разина по-прежнему бродили бездомные беглецы из российских краев, они до последнего времени передавали Алене слухи о муже. Теперь он был уже словно и не казак, а какой-то сказочный великан Вертидуб или Свернигора, про которого еще мать Алены рассказывала ей сказки. Говорили, что он потопил во Хвалынском море тысячу кораблей кизилбашского шаха, взял десять тысяч пленников и поменял их у шаха на русских людей, томившихся в басурманской неволе. Зато теперь у него несметное войско, ему бьют поклоны и воеводы и за столами садят его в красный угол...
И вдруг на несколько дней прервались все вести, беглецы приумолкли и будто бы даже несколько отшатнулись от разинского двора, словно что-то таили от Алены... Алена Никитична насторожилась, но ни о чем не могла дознаться. Вдруг Гришка принес со двора какую-то странную весть: будто батька хочет жениться на кизилбашской царевне...
– Что ты, глупый, плетешь! Кто там женится от жены да детей!
– Мужики ить сказали! – воскликнул Гришка, только теперь догадавшись о том, что принесенная им весть испугала мать. – Ты, матка, пусти меня, я к нему съеду, уговорю не жениться! – стал он просить, чтобы исправить свою оплошность.
– Не турка твой батька! Пустое плетут про него! – в сердцах сказала Алена, но сама затаила заботу, в задумчивости то и дело напевая про себя тоскливую песню про «былиночку, сиротиночку», которая стоит над рекой.
Над рекой стоит
Да в реку глядит,
Дал мне бог красы,
Сиротиночке...
А кому краса
Моя надобна?! -
пела Алена и не раз повторяла последние, самые печальные слова:
А кому краса
Моя надобна?!
– Ну кому же еще! Мне и надобна! – услышала вдруг она под окном дорогой и любимый голос.
Степан не поехал улицей. Сопровождавших его казаков он разослал, кого куда, по разным станицам, других отпустил до вечера по домам, сам же пробрался задами по огородам и оказался внезапно под самым окошком... Приветливо и любовно смеялись его глаза.
– Стенька! Стенька! Степанушка! – словно в смертельном испуге, закричала Алена. – Родной ты мой! – задыхаясь от счастья, залепетала она. – Под окно прилетел да горе мое подслушал... Да что же ты там, во дворе... Ой, прямо в окошко!..
– В дверь-то к желанной далече! – смеясь, ответил Степан.
Большой, нарядный, веселый, он обнял ее и стоял, заглядывая ей сверху в лицо. Он глядел прежними любящими, молодыми глазами. От счастья и радостного смущения Алена вдруг растеряла слова и говорила совсем не то, что хотела. Она по-девичьи гладила его ладонью по рукаву, не решаясь коснуться ни руки, ни лица...
– Алешка, ты что? – ласково спросил муж, заметив ее слезы.
– Сказали, ты счастье иное нашел, не вернешься, – шепнула она.
– Да что ты! Куды ж мне иное-то счастье! – ответил Степан. – Сколь нарядов ни сменишь, а сердце одно... И ты мне одна на свете!
– Не покинешь нас больше? – тихо спросила Алена, прямо взглянув в его глаза.
– Как кинуть такие-то очи синющи! Аль краше на свете сыщу!.. Что сын-то Гришутка?
– Возро-ос! Во какой! Да сейчас его кликну, постой! – заметалась Алена, словно только ждала случая, чтобы оторваться от мужа.
Она задыхалась от волнения, и ей было необходимо выскочить хоть на миг во двор или на станичную улицу, чтобы" отдышаться, чтобы радость не разорвала грудь.
У порога Алена все же остановилась и оглянулась еще раз на мужа.
– Неслышно-то как под окошко подкрался! – вся светясь и сияя, сказала она. – Сейчас я Гришутку...
И уже на краю огорода, в саду за избой, послышался ее зов:
– Гри-иша! Гри-ишка! Гришу-утка-а!..
«Смешны-то дела господни, – оставшись один, рассуждал про себя Разин. – Ты ли то, атаман Степан? То летал по чужим краям да искал богатства, правды, славы искал... Ан вот богатства твои и правда твоя человечья – в донской станице, и правды краше не надо на всей земле. То ветер морской сладким казался, ан тут, в гнезде, хлебушком теплым да яблоками пахнет, и нет того духа слаще...»
– Ба-атька-а-а! Батя-а-ня-а-а! Домой вороти-ился-а-а! – послышался крик, и Гришка, как бомба, ворвался в окно избы.
– Здоров! Ну, здоров, казачище Григорий! – воскликнул Степан, обнимая сына.
– Весь в батьку! – любуясь ими, нежно ворчала Алена. – Порода такая – дверей им, вишь, в избах нету! Куды ж ты к отцу эким нехристем грязным?! Наряд-то, гляди-ка, на нем замараешь! – строго остановила она.
– Аль наряд казака дороже?! – воскликнул Степан.
– Батька, батька, а сабля твоя, клинок адамашский? – уже приставал к отцу сын, овладевший саблей...
Атаманская дочка, проснувшись от шума, вдруг испугалась.
– Ой, турка! Ой, турка! – кричала она.
Алена, смутясь, уже хотела наградить ее шлепком.
– Погоди, приобыкнет, – сказал Степан, снимая чужеземный наряд.
В радостной растерянности вынимала Алена из сундука камчатую скатерть, лежавшую там два года, уставляла стол едой и питьем. Словно невзначай, касалась его руки, волос...
– Гляди, седина, – шепнула Алена, тронув его бороду, в которой блестело несколько серебристых колечек...
– Седина, седина, – согласился Степан. – Не люб тебе старый муж, Аленушка? – улыбнувшись, спросил он.
– Сказывали – не воротишься; стал как князь, ходишь в парче да узорочье, пьешь с воеводами... – осмелясь, заговорила Алена, издалека подходя к тому, что казалось ей самым главным.
– И князем звали, и с воеводами пил, и парчи да узорочья хватит на всю твою жизнь, – ответил Степан.
– Сказывали – ясыркою взял княжну басурманскую, молодую, как нежный цвет ее бережешь, любишь ее, на ней женишься, царю кизилбашскому зятем станешь... – дрожащим голосом продолжала Алена.
– Была и княжна, – сказал атаман, помрачнев.
– Была? – тихо переспросила Алена, выронив на пол тонкую голубую чашку, привезенную Степаном еще из Польши в подарок.
– Была, да упала из рук. Так и разбилась, как чашка, нече и молвить...
– Пей, Тимофеич, кушай... – едва слышно пролепетала жена, придвигая к нему еду и подливая вина.
Но не успел Степан с дороги поесть, как под окнами послышались голоса: