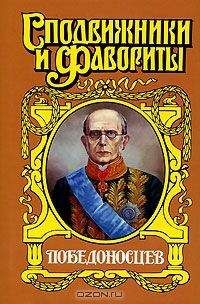Украдкой, не очень громко, затягивали солдатскую, печальную и тоже, между прочим, вроде бы декабристу какому-то принадлежащую:
Послушайте, братцы,
Советов моих,
На всяком есть месте
Выгоды свои.
Генерал в карете
К разводу спешит,
А наш брат в шинели
Чуть ружье тащит…
Завершалась тоскливая мелодия — слезы на глаза наворачивались:
Убежал от пушек —
Дают крест златой;
Оторвало ногу,
Так ступай домой.
Что же будешь делать,
Когда дома нет —
Вот тебе награда
За двадцать пять лет!
Песня впечаталась в память, и Константин Петрович не вымарал ее из опубликованного дневника через четыре десятка лет, когда его на всех углах поносили как человека, равнодушного к бедам народа и желающего ему зла. И в этом тоже весь Победоносцев — не утаивающий ни от себя, ни от других жестокости окружающей русской жизни.
Итальянские меломаны создали свой кружок. В него входили Врангель, Диодор, Попов и прочие любители сладостного южного стиля. Они бредили ариями, популярными с времен Виардо и Рубини. Словом, пение занимало чуть ли не больше внимания, чем юридические дисциплины, что скрашивало Константину Петровичу отдаленность от. Хлебного переулка и домашнего угощения. Весной 1845 года, майским свежим вечером, прячась в тихом уголке, он изливал на бумагу волновавшее сердце и ум: «Все молоды, все поют, и песни, которые слышишь и поешь здесь, наверное останутся в ушах на всю жизнь». Он не ошибся: песни действительно остались в ушах на всю жизнь. Он уверился в великой силе пения, в том, что человеческий голос формирует характер или по крайней мере способствует этому. Позднее он не разрешал открывать церковно-приходские школы без учителей пения и начинал прославленные обер-прокурорские инспекции с соответствующих уроков, а затем шел в храм и там прилежно слушал, наслаждаясь дивным инструментом человеческого голоса.
«Выйдешь в сад — весною пахнет; с грустью вспоминаешь деревню, но и тут — весенний воздух, молодой лист, птичка чирикает. Мудрено ли, что и мы все принимаемся чирикать? Чирикаю и я, запевая любимую майскую песню:
Wie herrlich lauchtet
Mir die Natur,
Wie glänzt die Sonne,
Wie lacht die Flur…
В эту минуту слышу, в саду составился живой, звонкий, ладный хор. Поют русские песни, шевелящие душу, поют «В темном лесе…», а вот затянули другую, и слышу припев: «Две собачки впереди, два лакея позади…», «Ваша воля, ваша власть…» и прочее.
Пение разнохарактерное…»
Каково?! Кто бы мог вообразить, что человек, о котором говорили и писали то, что говорили, и писали о Константине Петровиче, в зрелой и вполне осознанной юности чирикал и запевал любимую майскую песню, да еще на языке лютеран и католиков! Кто бы мог подумать?! Невероятно! И вместе с тем очень вероятно и очень похоже и не вызывает у меня ни тени сомнений. И напрасно мне будут приводить факты из биографии жестокосердного и призывавшего к восстаниям Маркса, который мечтал стать поэтом и слагал стихи, или Сталина, грешившего тем же, или какого-нибудь Дзержинского вкупе с Андроповым, игравшим на рояле и тоже слагавшим лирические вирши, одновременно гноя в лагерях и тюрьмах тысячи талантливых людей лишь за то, что они чувствовали, думали и писали не так, как хотелось коммунистам. Только, кажется, Ленин, а позднее Ягода и Ежов с Берией не терзали бумагу. Впрочем, Ежов, рассказывают, пел. — А его неродная дочь, сосланная на Север, до сих пор слагает стихи. Стремление людей определенного психологического склада превратить себя в творцов и в творениях излить душу общеизвестно. Но их примеры, если кто-либо попытается воспользоваться этим одиозным приемом для того, чтобы низвести мое удивление до уровня ошибочного утверждения или пошлости, не окажут серьезного воздействия на думающего читателя. Я убежден, что в интеллект юного правоведа закладывался цивилизованный психологический фундамент. Как образованный европеец, Константин Петрович не старался насиловать собственную природу и оставался таким, каким она его создала. Он не принуждал себя слагать оды, когда был призван к иному.
«Вспоминаю, как зимою в спальнях, — продолжал Константин Петрович заполнять дневник прекрасным, выработанным почерком, — Юша садится к фортепиано и запевает своим приятным тенором цыганские песни и романсы «За Уралом за рекой…», «Скинь-ка шапку…» и прочее, а около него кружок любителей слушает и подпевает». И опять здесь возникают немцы, которые в тесном единстве с русскими предаются отнюдь не греховному занятию. Среди главных голосов — непременно силач и шалун Раден. Он хвалится своей октавой, пристает, хотя и немец, к церковным певчим и любит, подойдя к окну, пустить ее в стекло на полную мощь. У немцев глотки крепкие и голоса красивые. Вообще немцев в училище хватает. Константин Петрович сошелся с одним, по фамилии Энгельгардт. Немцы местные ввели в употребление дорогие их сердцу хоры, которые и остальные охотно поют с ними.
Перед очередным выпуском государь зачастил в училище. Дежурные флигель-адъютанты не сообщали Пипу об инспекции его заведения. Но он прознавал о намерениях императора какими-то неведомыми путями. Служители мыли и мели коридоры и классы, осматривали мундиры — все ли пуговицы на месте, особое внимание уделяли лазарету. Император везде и всегда посещал оные богоугодные заведения. Протоиерей Михаил Измайлович Богословский, по прозвищу Батька, покровительствовавший Константину Петровичу и Юше Оболенскому за их приверженность к церковной обрядности и изящной литературе и даже приглашавший к себе на обед, хоть и постный, но вкусный, без устали репетировал с певчими. Батьку, в общем, любили в училище, несмотря на то что Пиц принуждал его участвовать в допросах воспитанников, когда Берар и Андреев, учинив обыск, обнаружили массу недозволенного и предосудительного. Тогда хотели удалить Готовцева, Тунцельмана, Квиста, Оголина, Свечина, Жулковского и Замятина, засадив в лазарет. Константин Петрович делился с Юшей Оболенским:
— Грустно, грустно! Несправедливо! Слишком жестокое наказание! А наказание должно во что бы то ни стало соответствовать проступку, иначе это месть, а не наказание. Но, видно, fiat justitia, pereat mundus!
Воспитанники тогда Батьку втихомолку изругали, но в других случаях он противостоял Пипу, нередко забывая о христианском смирении и необходимости подчиняться властям. Беседы с Константином Петровичем и прочими отмеченными им воспитанниками он вел долгие и весьма любопытные, обнаруживая совершенно неожиданное знание светских книг.
Константин Петрович тоже готовился к приезду монарха. С первого года Пип вызывал к кафедре сына профессора Победоносцева, чтобы продемонстрировать важным особам, какими разносторонними знаниями обладают воспитанники. В присутствии самого министра юстиции Виктора Никитича Панина и пэра Франции графа де Сен-При Константин Петрович прямо из середины шпарил Саллюстия, причем Пип совершенно не волновался за исход дела и держался с завидным апломбом. А между тем Панин, де Сен-При и граф Уваров знали Саллюстия назубок. Не каждый раз подобный опыт удавался с другими воспитанниками. Андрюша Оболенский, отвечая Штекгарду, однажды сел в калошу. Вот когда Пип заерзал на стуле и пошел красными пятнами. Больше рисковать не решался. Вызывал к кафедре проверенных. Старик Георгиевский похвалил Константина Петровича за сочинение на весьма скользкую тему. Писалось оно, естественно, по-русски, и в нем утверждалось, что изящные искусства могут процветать только в благоустроенном государстве, а именно правоведы призваны превратить Россию в таковое. Георгиевский пользовался у воспитанников авторитетом, но настоящий восторг у Константина Петровича вызывал преподаватель истории французского права Аллье. В дневнике отмечены его прекрасная плавная речь, чисто галльское остроумие и свойственное лишь французам одушевление. Из всех наставников лишь Аллье удостоился подобной характеристики. У правоведов не оказалось ни своего Пушкина, к сожалению, ни своего Куницына, в чем, вероятно, следовало бы упрекнуть графа Панина с Пипом на запятках и самого монарха, потому что властелин полумира ответственен и за отсутствие гения в училище, находящемся под высочайшим патронатом. Разумеется, речь здесь идет не о юридической ответственности. Адъюнкт-профессор нравственных и политических наук Александр Павлович Куницын оставил неизгладимый след в творчестве и жизни Пушкина, и неудивительно, что поэт обращался к учителю с благодарностью, помнил о нем, уважал и, наконец, запечатлел в возвышенной и красивой строке — «Куницыну дань сердца и вина!»