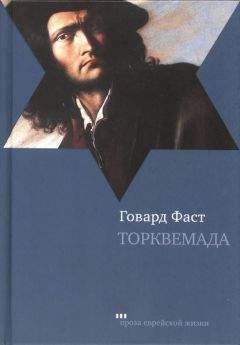В женской части синагоги ничем не покрытые скамьи — единственное место, предназначенное для сидения, — шли параллельно стенам, в мужской же части — перпендикулярно. В главной части синагоги — той, что напротив дверей, стояла небольшая кафедра, пространство за ней было задрапировано темно-красной тканью. Кафедра возвышалась над полом на две ступеньки, и рядом с ней стоял деревянный пюпитр с развернутым на нем пергаментным свитком.
Катерина заняла место ближе к стене. На кафедре стоял человек, в котором она узнала раввина, приходившего в их дом, — того, кому отец спас жизнь. Взяв свиток за ручки, он разворачивал его, пока не дошел до нужного места. Тут он увидел Катерину, одиноко сидевшую в дальнем углу синагоги. Их взгляды встретились, и Катерине показалось, что раввин задумался: он словно бы вглядывался в себя и в священный текст перед собою. Так он простоял довольно долго, не двигаясь и не произнося ни слова, и только потом приступил к чтению:
— «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой! Я вопию днем — и Ты не внемлешь мне, ночью — и нет мне успокоения…» — Раввин сделал паузу, положил руку на развернутый свиток и посмотрел на Катерину. Затем обвел взглядом молящихся и проговорил: — Простите меня. В это необычное утро я начал с необычной молитвы. К нам кое-кто пришел. Я должен принять решение, но не могу его принять. Поэтому я читаю то, что оставили нам предки наши…
Пока Мендоса говорил, из-под двери в синагогу стали пробиваться тонкие струйки дыма, наполняя древнее здание едким запахом; послышалось легкое потрескивание. Старый сторож подбежал к двери, пытаясь открыть ее, но та не поддавалась.
— Помогите! Помогите! — закричал он.
Мужчины бросились помогать ему. Катерина сидела неподвижно. Мендоса, возвысив голос чуть ли не до крика, читал:
— «Но Ты, Святый, живешь среди славословий Израиля. На Тебя уповали отцы наши; уповали, и Ты избавлял их. К Тебе взывали они и были спасаемы; на Тебя уповали и не оставались в стыде…»
А пламя уже ревело. У Катерины было странное ощущение — ей казалось, что она видит все, что происходит за стенами синагоги. Она ясно поняла, что синагогу подожгли снаружи. Прихожане оказались в ловушке. Весь еврейский квартал стал площадью аутодафе, посреди которой, как сухое дерево, пылала древняя синагога.
Келья, в которой Торквемада жил в это время, была ненамного больше камеры, где содержался Альваро. Черный кафельный пол, свежепобеленные стены. Единственным украшением — если можно так выразиться — было висевшее на одной из стен распятие. Из мебели в комнате были только стул, кровать и небольшой комод. Перед распятием на полулежал пеньковый коврик. Когда монах постучал в дверь, Торквемада стоял на нем на коленях.
— Войди, — сказал Торквемада.
Монах открыл дверь. Торквемада не поднялся с колен. Келья освещалась только полоской света, проникавшей сквозь окошко в стене у самого потолка. Монах остановился на пороге в ожидании. Наконец Торквемада закончил молитву, встал, повернулся к монаху. Падавший из окошка луч света лег между ними.
— Что скажешь, брат мой? — спросил Торквемада.
— Синагогу сожгли, — ответил монах.
Лицо Торквемады словно окаменело, он кивнул:
— Я видел дым. Пахло горелым. Кто поджег синагогу, брат мой?
— Люди… Добрые люди…
— Добрые люди? А может, воры и убийцы?
— Добрые христиане. — Монах как бы оправдывался.
— Значит, добрые христиане, — выразил кивком одобрение Торквемада. — Когда синагога загорелась, в ней были люди? Евреи в это время молились?
— Да, они как раз в это время собираются на молитву.
— Кто-нибудь спасся?
— Нет. Все погибли. Старое дерево вспыхнуло в момент. Вы же знаете, что оно очень старое, приор. Ведь синагога стоит здесь с незапамятных времен.
— Знаю, — сказал Торквемада.
— С незапамятных времен, — повторил монах. — Говорят, сам дьявол построил ее еще до того, как в Испании появились люди, и потом подарил ее евреям…
— Не болтай чепухи! — перебил его Торквемада. — Синагога сгорела дотла?
— Она запылала, как факел.
— Кто в ней был?
— Человек сорок евреев, — ответил монах, — и раввин Мендоса.
— Больше никого?
— И еще одна женщина.
— Женщина? — Торквемада подошел к монаху так близко, что их лица чуть ли не соприкасались. — Откуда там женщина? Еврейские женщины обычно не ходят в синагогу — разве что в субботу.
— Она не еврейка, — сказал монах.
— Откуда тебе это известно? — спросил Торквемада.
— По одежде. Она была одета, как знатная испанская дама. На ней был плащ, но он распахнулся, и я увидел драгоценные украшения.
— Ты узнал ее?
— Точно не скажу, приор. — Тон у монаха был извиняющийся, чуть ли не умоляющий. Он хотел бы угодить Торквемаде, но не понимал, чего тот от него хочет. — Это была христианка, — уверенно сказал он.
— Старая? Молодая? Средних лет? Думай, дурак! Как она выглядела? Ты можешь ее описать?
— Совсем юная. Похожа на дочь дона Альваро.
— Почему же ты не остановил ее? — напустился на монаха Торквемада.
Монах в страхе попятился.
— Разве мне подобало остановить ее? — сказал он. — Раз она вошла в синагогу, значит, стала еретичкой. Мое ли дело останавливать ее? Мой единственный долг — следить и после донести на нее. Бог сам ее покарал.
Внезапно Торквемада ухватил монаха за сутану, сжав кулаки, притянул к себе и прошептал:
— Как ты мог?
— Что я такого сделал? — перепугался монах.
Торквемада с силой оттолкнул его от себя:
— Что ты сделал? Я накладываю на тебя епитимью, чтобы ты понял, что ты сделал. Посидишь сто дней на хлебе и воде — может, и поймешь, в чем твой грех! Сто ночей без одежды проймут твою очерствевшую душу!
Монах пал на колени и забормотал:
— Прошу вас… приор, прошу, скажите… в чем мой грех? В чем?
— Вон! — взревел Торквемада. — Оставь меня!
Монах вскочил и выбежал из комнаты. Торквемада остался один; он долго стоял, закрыв глаза, стиснув кулаки.
— Боже, смилостивься надо мной… — наконец прошептал он.
После того как монах ушел, Торквемада чуть ли не час сидел в темной келье. Адское пламя жгло его, но он терпел — не роптал на Бога и Божий промысел. Один только раз сказал вслух:
— Я — Твое орудие, Господи!
Но это его не утешило. Сказал он это сам для себя о себе. Потом встал, покинул келью и пошел по монастырю. Коридоры были пустынны: прошел слух, что приор в гневе, и монахи боялись попасться ему на глаза. Торквемада спустился по сырым каменным ступеням туда, где томились узники инквизиции. Вступив в круг, освещенный пламенем горящего факела, Торквемада вынул факел из железного кольца и продолжил путь, пока не дошел до камеры Альваро. Открыл дверь и вошел внутрь. Альваро лежал на койке — спал.
Торквемада подошел к койке, смотрел на Альваро. Альваро мирно спал, глубоко и ровно дыша, его сон был невинным и безмятежным. Торквемаду захлестнула горячая волна зависти, да что там зависти, даже ненависти, но эта ненависть как пришла, так и ушла. Альваро неожиданно открыл глаза, сел, щурясь от яркого света факела, потом открыл глаза шире и увидел Торквемаду.
— Сны мне сегодня не снились, — сказал Альваро, — но, похоже, я вижу их наяву. Думал ли ты когда-нибудь, Томас, что все россказни об аде куда правдоподобнее, чем нам казалось? Возможно, наш мир — просто ад какой-то иной жизни.
— Опять богохульствуешь? — сказал Торквемада.
— Сколько раз ты будешь убивать меня? Сколько раз сжигать? — Альваро опустил глаза, потом тихо спросил: — Что, Томас, время пришло?
— Для чего?
— Для моей смерти.
— Нет, не пришло, — ответил Торквемада.
— Зачем же ты тогда явился? Твое присутствие мне тягостно. Я могу побыть один — вот и все, что мне осталось, а тут возникаешь ты, словно ангел мести, или лучше сказать — дьявол? Что тебе нужно, Томас? Ты пришел сюда ради спасения моей души? Тебя ведь всегда беспокоило, что станется с моей бессмертной душой. Я что, должен сделать признание?
— Ради спасения моей души, думаю, да.
Альваро рассмешили его слова. Он захохотал. Его все сильнее разбирал смех, тело его сотрясалось. Альваро, не в силах остановиться, согнулся от хохота, но тут Торквемада крикнул:
— Прекрати! Прекрати!
— Ради спасения твоей души, Томас! Никогда не думал, Томас, что ты сочтешь, будто твою душу нужно спасать. Заглядывал ли ты в свою душу, Томас? Она черна как смоль, но оправлена в золото. Она украшена миллионами золотых монет, отнятых у бедняг, которых ты сжег. Томас… Томас, ты — как горькое обвинение против человечества. Бог не в своем уме, иначе он не допустил бы, чтобы вода во время потопа пошла на убыль. Впрочем, зачем мне сомневаться в тебе, Томас? Если тебе случится шагнуть в вечность и полететь прямехонько в адскую бездну, ангелы с песнями подхватят тебя и спасут твою смрадную бессмертную душу. Надеюсь, тебя доставят в рай. Поверь, Томас, я всей душой надеюсь на это. Каждую ночь я молюсь, чтобы моя надежда сбылась, молюсь сразу трем богам — еврейскому, христианскому и мусульманскому. Молюсь, чтобы на небесах тебя встретили с распростертыми объятиями и приняли твою зловонную душу. Знаешь, почему я молюсь об этом? Можешь догадаться, Торквемада?