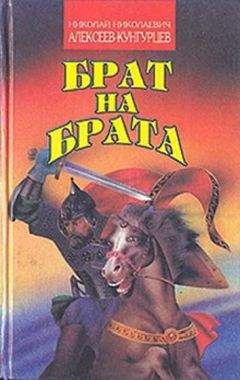То, что сперва сложилось в мозгу у Марка лишь как предположение, мало-помалу превратилось в уверенность, и он погонял коня:, желая возможно скорее увидеть все это на деле.
Однако дорога что-то затянулась. Уже несколько раз Марк поворачивал вправо, как научил его Турбинин, но, вместо ожидаемого открытого поля и боярской усадьбы на нем, представлялся лес, лес и лес, и просеке конца не предвиделось.
Марк Данилович только разводил в недоумении руками и в душе не раз ругнул своего нового знакомца, что тот наврал ему, будто до усадьбы дяди чуть не рукой подать.
Конь, уже утомленный и ранее долгим путем и некормленный с утра, начал заметно приставать, когда наконец открылось поле и на нем усадьба невдалеке.
Марк Данилович вздохнул с облегчением. «Наконец-то! Вот она, желанная!» — подумал он, направляя коня к воротам усадьбы. Ворота были закрыты. Марк слез с коня и постучал. Скрипнула калитка, и старик-холоп вышел к боярину.
— Что надоть, добрый человек? — спросил он, окидывая взглядом наряд прибывшего.
— Боярина Степана Степановича повидать надо.
— Степана Степановича? Такого нет.
— Да ведь это — усадьба Кречет-Буйтурова?
— Ай же нет! Кречет-Буйтуровская отселе верст пяток будет.
У Марка и руки опустились.
— Вот те на! — пробормотал он. — Чья же эта?
— Боярыни Василисы Фоминичны Доброй.
Молодой боярин не знал, на что решиться: ехать ли немедля на розыски дядиной усадьбы или сперва отдохнуть.
— Ты издалече, молодец? — спросил старик, очевидно решив, что перед ним не боярин, а худород.
— Издалече.
— Оно и заметно: вишь, конь-то как заморился.
Кречет-Буйтуров посмотрел на своего коня: он был весь в мыле. Волей-неволей приходилось отдыхать.
— Твоя боярыня не позволит ли отдохнуть в усадьбе малость?
— Я чай, позволит. Пойти спросить, что ль?
— Да. Скажи, что сродник боярина Степана Степановича заплутался и отдыха просит.
Старик разинул рот от удивления, а потом поспешно снял шапку.
— Обожди малость, боярин, я живой рукой, — сказал он и юркнул в калитку.
Через несколько минут ворота распахнулись.
— Боярыня просит к ней пожаловать и хлеба-соли откушать, — проговорил старик-холоп, принимая из рук Марка Даниловича узду.
Перейдя обширный двор и поднявшись на крыльцо, Марк Данилович вступил в просторные сени. Молодой холопчик, низко поклонившись боярину, помог ему снять кожух и отворил дверь в светлицу.
— Пожалуй, господин! Василиса Фоминична обождать малость просила, — сказал он.
Марк вошел и осмотрелся. Убранство светлицы мало чем отличалось от обычного. Те же лавки вдоль стен, покрытые вышитыми полавошниками, стол дубовый с бранною белою скатертью, поставец с посудою, иконы в углу. Обилие посуды в поставце и золоченые, усыпанные драгоценными камнями оклады икон указывали на зажиточность хозяев.
Скрипнула дверь. Это входила хозяйка.
Василиса Фоминична оказалась еще очень не старой женщиной. Ее можно было бы принять за девушку, если бы ее голову не прикрывала голубая атласная кика — знак, что она замужняя илц вдова. Кика была богатая; верхний и нижний края ее были унизаны жемчугом, с боков были две золотых «запоны» — рубины так ихсветились на них кровавым светом. Не менее богат, чем кика, был и сарафан: шитый из голубого, того же цвета, как и кика, байберека [11], ой был от ворота до пола застегнут такими пуговицами, которые одни стоили не дешевле иной деревеньки; в каждой из них, что слезинка, сверкал алмаз. Стан боярыни был перетянут поясом с жемчугом и топазами; пояс был застегнут золотой запоною, с которой спускалась голубая кисть, перевитая золотыми нитями. Роскошный наряд был как нельзя более к лицу его обладательнице. Высокая, белая, с голубыми глазами с поволокой — она была типом русской красавицы. Против обычая, на лице ее не было наложено румян, и на щеках играл природный румянец.
При входе ее Марк Данилович низко поклонился. Она слегка кивнула ему головой и улыбнулась, и в этот миг лицо ее стало еще красивее — казалось, ряд белых зубов, сверкнувший из-под алых губ, кинул на него световой отблеск.
Молодая боярыня заговорила певуче и мягко:
— Недалече путь держишь?
— Издалече! Из-за моря.
— Из-за моря? Куда ж едешь?
— К дяде своему Степану Степановичу Кречет-Буйтурову.
— Знакома с ним, знакома. Его вотчина недалеко отсюда. Садись… Как тебя по имени, по отчеству?
— Марк Данилович.
— Садись, Марк Данилыч, а я сейчас распоряжусь…
— Не надо, Василиса Фоминична.
— Ни-ни! И заикнуться не смей! Я — сердитая вдова!
И она шутливо погрозила ему пальцем, потом крикнула:
— Степанида!
Молодая холопка, неслышно ступая поршнями [12], вошла в светлицу и остановилась у дверей.
— Подай-ка ты нам перекусить.
— Чего прикажешь?
— А вот подумаем… Гуська у нас от обеда осталось?
— Есть, есть.
— Его подай. Опять же есть пирожок с бараниной, сырнички. А потом подай груздей солененьких, белых грибов в уксуску… Осетринки холодной подай — вчера, кажись, не всю доели?
— Осталось ее порядочно.
— Ну, вот. А потом…
— Да побойся Бога, Василиса Фоминична! Али закормить меня хочешь! — вскричал Марк Данилович.
Боярыня опять шутливо погрозила ему, и еще долго продолжалось ее: «А потом, а потом»…
Словно по волшебству, накрылся стол и уставился самыми разнообразными снедями, начиная от гуся с капустой и кончая икрой. Появились между снедями и мед разных сортов — смородинный, вишневый, можжевеловый — видно, у боярыни Доброй был изрядный запас его в медуше [13] — и наливки и даже романея [14].
За время своего пути Марку Даниловичу не раз приходилось просить гостеприимства в боярских усадьбах и угощаться в них, поэтому он хорошо знал, что гостю нужно как можно более притворно отказываться. Но Василиса Фоминична так умела потчевать, что долго церемониться не приходилось, и проголодавшийся с дороги боярин, забыв про всякие обычаи, изрядно приналег на кушанья.
Пока он ел, вся беседа состояла в том, что он отказывался, а она угощала. Но, когда с едою было покончено и в руках хозяйки и гостя появились кубки, беседа оживилась. Старый мед бил в голову, наливка тоже не была легка. Молодой боярин после нескольких кубков почувствовал легкую тяжесть в голове и заметно повеселел. Василиса Фоминична тоже пригубила не один кубок, и румянец ярче вспыхнул на ее щеках, а в глазах засветились огоньки.
Марк рассказывал о Венеции и своем житье там, о трудностях, приключениях и опасностях, пережитых в пути. Он говорил, а сам смотрел на красивое лицо боярыни, на ее полную белую шею. Он чувствовал на себе ее взгляд, и, когда встречался с ним, ласкою и теплом веяло на него от этого взгляда. Близость красавицы женщины оживляла его не меньше меда и наливок. А молодая хозяйка как будто нарочно выставляла маленькую белую руку, наклонялась к нему так близко, что он чувствовал ее горячее дыхание.
— Да, много тебе притерпеть пришлось! Молодец ты, богатырь! — промолвила Василиса Фоминична, обдавая Марка ласкающим взглядом.
— Ну, какой богатырь! Другим больше моего переживать приходится.
— По тебе там в венецейском граде, я чаю, все красавицы сохли — вишь, ты такой пригожий уродился.
— Ну… — протянул боярин, смущаясь и не зная, что сказать.
— Увидели бы нас с тобой теперь наши боярыни-воркуньи либо бояре седобородые, то-то подняли б шум: этакая, вишь, срамота: баба молодая бражничает с боярином пригожим. А мне что? Надо мной нет головы: вдова — вольный казак! — Василиса Фоминична лихо тряхнула головою и рассмеялась.
Марк посмотрел на нее и подумал:
«Бой баба! Славная баба!»
А она продолжала:
— Терем — та же темница для девицы. День-деньской в четырех стенах. Только и любуешься на свет Божий, что из-за окна переборчатого. А замуж выдадут — тоже не сласть.
— Какой муж попадется… Коли по сердцу…
— По сердцу? Да кто ж спросит девицу о том, по сердцу ль ей жених али нет? Сговорили — и делу конец. Меня выдавали, так я впервой тогда своего жениха увидала, коща к венцу повели. Старый, седой, и на одну ногу будто прихрамывает. Сладко ль мне было за такого идти? Плакала я — так ведь слезы девичьи — роса! Полдесятка лет маялась я с ним…
— Давно он помер?
— Нет, недавно. За два дня до зимнего Миколы. Ну, а теперь я сама себе голова — кого хочу, того и полюблю. Сама себе мужа выберу по сердцу.
И ее глаза так и обожгли Марка Даниловича.
— Да, тяжела на Руси девичья доля! — задумчиво проговорил он.
— Тяжелей и сыскать трудно.
Легкие шаги послышались в смежном с светлицей покоем. Дверь распахнулась, и на пороге появилась молодая девушка, в простом белом сарафане и в юбке из синей «дабы» [15]. Маленькая и худощавая, с тонким профилем, с глубокими темными глазами, она была красива той возвышенной, одухотворенной красотой, которая дается в удел немногим. Не многие же могут ее и оценить — есть люди, способные чуть не молиться на картину кисти гениального художника, и есть такие, для которых эта же картина — недостойная внимания вещь, холст, испачканный красками. Только чуткая душа могла понять ее. Тайна такой красоты скрыта не в чертах лица — они могут быть самыми заурядными — но в том внутреннем свете, который сквозит сквозь них.