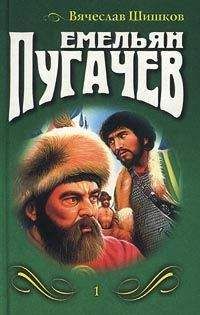— Иваныч! Суворову, Суворову поднеси. И всем…
Все поднялись с чарками, дружно прокричали:
— Будь здоров, отец наш!
— Пейте, детки. А врага бить будем. Штыком, штыком! Влево коли, вправо коли! Пуля дура, штык молодец. А казацкая саблюка тоже — ого-го… Жжих — и нет башки! Пугачев, песни можешь?
— Завсегда могу. Я голосист.
— Стой! Дай я сперва. Старуха у меня там, в Кончанском, в селе моем. Нянька. Ох, мастерица, ох, затейница. Не поет, а вопит. Аж слеза берет.
Суворов быстро крутнул головой, сорвал с жердины висевшую над его плечом просохшую портянку барабанщика. Тот с испугом закричал:
— Ваше высокоблагородие!.. Не трогте! Вот рушничок почище…
— Помилуй бог, Иваныч, не шуми, — погрозил Суворов пальцем, взял ручник, живо подвязался им по-бабьи, как платком, весь сморщился, выпятил подбородок, стал похож на старушонку.
Пугачев и солдаты не могли стерпеть, улыбнулись. Суворов сугорбился, подшибился рукой и, пришамкивая, запел-завопил старушечьим голосом:
Головами мосты мощены,
Из кровей реки пропущены,
Ох-ти, да ох-ти, да ох-ти мне.
— Это про войну, братцы, про кроволитье, — сказал Суворов натуральным голосом и резко разогнулся. — Ой, и добры же слова в песне, ребята. Все кричат — Гомер, Гомер! А вот он — Гомер, старухи деревенские. Не слова, а жемчуг, бриллиантовые бусинки. Берегите, братцы, старину!
Он опять сугорбился, сморщился, снова завопил:
Круг сердечушка с ружья палят,
По бокам пуля пролятыват,
Мати дома убивается,
Сынок милый не вертается…
Он вопил протяжно и столь выразительно, с такой неподдельной жалостью к жертвам войны, что солдаты начали пофыркивать носами, Иваныч смахнул слезу, и плохо бритые губы его задергались.
Быстро стемнело. Стали бить вдали вечернюю зорю. Суворов вскочил, сорвал с головы ручник, припустился к своей палатке, крикнул на бегу:
— Соломки, соломки подбросьте! Спать к вам…
1
Наступила весна 1760 года. Вновь началось великое передвижение войск.
После разгрома прусской армии под Кунерсдорфом предприимчивый Фридрих сумел, правда — с большими усилиями, набрать новые войска. Вся Пруссия, изнуренная непосильными налогами, изнывала от войны. В народе подымался ропот.
Со всех сторон прусские области были окружены врагами Фридриха.
Граф Салтыков тоже двинул на Фридриха сильную армию, зимовавшую в Польше.
Русские войска пока что стояли вблизи реки Одер в бездействии.
Осторожный Салтыков берег свою армию и не хотел одними своими силами вступать в бой с Фридрихом. Его возмущало, что австрийский генерал Лаудон все время идет по пятам прусской армии и не решается атаковать ее.
Салтыков сетовал австрийскому главнокомандующему фельдмаршалу Дауну: «Если вы не воспрепятствовали королю перейти Эльбу, Шпрее и Бобер, то ничто не помешает ему перейти и Одер, соединиться с принцем Генрихом и обрушиться на меня всею силою. Но я прямо говорю: как только король перейдет Одер, я в тот же час иду обратно в Польшу, ибо здесь ни солдатам, ни коням еды нет».
После этого Даун решил дать бой Фридриху, но в двухчасовом сражении был разбит и бежал. Несмотря на столь быструю победу, Фридрих все же очутился в тяжелом положении: у него были пусты фуры и казна. Он повернул к Бреславлю, материальной своей базе. Салтыков не сумел воспользоваться замешательством Фридриха и без видимой причины стал отводить армию назад.
А время шло, наступила осень. Салтыков захворал «гипохондрией», с разрешения Петербурга подал в отставку, передав командование армией графу Фермору.
Между тем оправившийся Фридрих стал теснить австрийцев, он пытался отрезать их от хлебной Богемии, окружить и уничтожить.
Чтоб отвлечь внимание Фридриха от австрийской армии, Фермор приказал графу Захару Григорьевичу Чернышеву открыть поход к Берлину.
Двадцать тысяч русских войск, подкрепленных пятнадцатью тысячами австрийцев, двинулись к столице Пруссии.
Генерал-майор Тотлебен, ссылаясь на свое отличное знание слабых сторон в защите столицы Фридриха, выпросил в ставке Чернышева три тысячи драгунов с гренадерами и через несколько быстрых переходов был уже под Берлином. Австрийцы, под командой Ласси, остались далеко позади. 23 сентября (ст. ст.) Тотлебен занял три дороги к Галльским, Бранденбургским и Котбусским городским воротам, а вскоре отправил в город парламентера-офицера с требованием сдачи столицы.
Фридрих не предвидел возможности столь молниеносного налета на Берлин и никаких мер к его защите своевременно не принял. У берлинского коменданта Рохова имелось лишь тысячи полторы солдат.
Был ясный осенний день. Узнав о наступлении русских, весь город всполошился. «Казаки, казаки!» — кричали жители, напуганные газетными измышлениями о лютых зверствах русского казачества. Любопытные бежали к воротам, залезали на крыши домов, на колокольни, откуда видны были окраины Берлина. В старинном костеле св. Марии ударили в набат, на пожарных каланчах выбросили тревожные знаки. По улицам, вздымая пыль, скакали взад-вперед рейтары , что-то кричали. То здесь, то там небольшими кучками спешили прусские солдаты, дружно отбивая шаг и направляясь к королевскому замку. Где-то слышались выстрелы, бой барабанов, звуки медных рожков.
В двух придворных с гербами каретах к ратуше подкатили раненный в Кунерсдорфском сражении генерал Зейдлиц и старик фельдмаршал Левальд, армия которого была бита русскими при Гросс-Эггерсдорфе. Оба они проживали на излечении в Берлине.
На кратком военном совещании, напыжившись и шлепая толстыми бритыми губами, старик Левальд сказал:
— Что, сдаваться? Мы ответим дерзкому врагу свинцом и порохом.
Мобилизовать все силы до последнего инвалида! Выдать боеспособным гражданам оружие… Все на защиту столицы! Я патриот своего отечества. Я сам встану… Слышите, комендант? Мы с генералом Зейдлицем оба примем участие в обороне… Не так ли, генерал?
— Ваше высокопревосходительство! — шустро встал юркий, маленький, с хитрыми глазами, знатный берлинский банкир Гоцковский. Расшаркиваясь пред фельдмаршалом и слегка заикаясь, он слащавым голосом заговорил:
— Будучи в наилучших отношениях с графом Тотлебеном, много лет проживавшим в Берлине, я беру на себя смелость, если к тому будет соизволение высшего начальства (он отвесил поклон Левальду) и столичного городского магистрата… Ээ… ээ… я приложу все силы к тому, чтобы склонить графа Тотлебена не наносить особых ущербов ни городу, ни казне, ни берлинской мануфактуре, ни… ээ… ээ…
— Позвольте, — пристукнув палкой, хмуро и грозно перебил его Левальд.
— Но город еще не сдан и не думает сдаваться. О чем вы говорите? — Лицо банкира враз покрылось испариной, он, как черепаха, вобрал черноволосую голову в плечи и двумя пальцами прикрыл рот. Левальд поднялся:
— Господа!
Продолжайте заседать. Здесь будет штаб обороны. Генерал Зейдлиц, а мы поспешим с вами к месту военных операций. — Волоча ногу и опираясь на палку, фельдмаршал направился к выходу.
Получив отказ в сдаче города, Тотлебен выставил на Темпельгофской горе две батареи и приказал начать обстрел Берлина.
Бомбардировка продолжалась с двух дня до шести часов вечера. Было выпущено по городу более трехсот гаубичных бомб и зажигательных просмоленных каркасов. Ядро пробило крышу королевского замка. Отряды пожарников быстро тушили возникавшие пожары. По улицам взад-вперед бегали вооруженные граждане и любопытные мальчишки. Воинственные инвалиды култыхали на костылях к воротам. Гремя колесами по мостовой, двигались от центра к городским заставам многочисленные арбы и телеги с товарами перепуганных купцов. По главным улицам проворно перебегали с лесенками фонарщики, зажигая свет.
Город не сдавался. В десять часов Тотлебен вновь открыл пушечную пальбу по городу.
Около полуночи казачьи разъезды схватили в поле возле Галльских ворот однорукого пруссака в военной форме. Он заявил на русском языке, что имеет личное поручение и пакет от фельдмаршала Левальда к ясновельможному графу Тотлебену. Безрукого доставили в палатку графа. Выслав из палатки адъютанта и лакея, граф сурово взглянул в глаза безрукого. Тот стал на колени и подал Тотлебену небольшую записку банкира Гоцковского. Тотлебен прочел и сжег на свече. Затем он написал на клочке бумаги: «Готовьте контрибуцию. Сдавайтесь». А вместо подписи приложил сургучную именную печать своим перстнем. Отдавая записку безрукому, он негромко сказал по-немецки:
— Вместе с этой запиской передашь господину Гоцковскому, чтоб не тревожился. А это возьмешь себе, — и граф протянул безрукому три золотых империала. Кликнув адъютанта, он на французском языке приказал:
— Вот что, милый мой, скажите-ка двум моим ординарцам, чтоб этого человека, присланного с пакетом от Левальда, они вывели за расположение наших войск и отпустили на все четыре стороны.