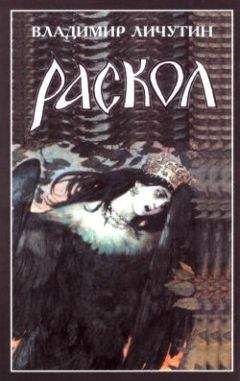Отчего же так замутились соловецкие старцы на морском отоке, чем таким непростительным досадил государь, что нельзя и мировую сыскать?
Царь мнением мира пренебрег: он православную веру, чем русский крепится на земле, решил самоволкою, по своей нужде и прихоти иначить, так высокоумствуя во Дворце, что его слову всяк должен гнуться, не переча. Он же, великий государь, народом был избран на престол, по его воле воссел на власть, и вот отобрал не только свободу, не только годящее совестное слово, но и само крестное знамение и всех верных, кто поднялся за святую веру, изгоном гонит по Руси, всаживая в костер и на плаху. Десять лет молят соловецкие старцы, чтобы не касался государь их веры, оставил бы во спокое с церковью отцев и праотцев, но Алексей Михайлович, вдруг возгоржась пуще солнца, не сделал во все долгое время ни одной уступки. Мало того, уже четыре года вовсе теснит. И не выдержали монахи, пожелали мщения государю-гонителю, ибо стал для них царь слугою антихриста, мучителем. Но какое мщение на последних силах можно придумать Первому Господину, когда и за одно-то слово правды режут язык и рубят руки? Как воспротивиться, чтобы всем стало в науку? И вот из беспомощности, из слезной горечи, что застыла на сердце, от страха перед Господом и за будущее Руси, скользящей в пропасть великой смуты, и решили старцы запереться в обители и отказаться от самодержца. Пусть казнит страшной казнию во славу Господа...
* * *
Стряпчий Игнатий Андреевич Волохов три лета толокся на Заяцком острове, не решаясь всем отрядом переплыть узкую салму и встать табором под стенами. Стрельцы мерзли в палатках на голом камени, испытывали хлебную скудость, безделицу, бескормицу и неустрой, в конце сентября сплывая назад в Сумской острожек на зимний постой. В семьдесят втором по тайной ябеде стрелецкого полуголовы был стряпчий отозван в Москву на дознание.
... Вина государя была в том, что дело застыло в нерешительности, было пущено на Божий произвол, хотя попервости можно было решить одним днем; растерянность царя, его страх пред грядущим Судом, неотчетливость будущего, куда вступал он робкою пятою, – все это и сказывалось на смуте. Как лесовой пал, она переметывалась по Руси, выжигая проплешины, а после как бы проваливалась на время в землю, чтобы в ином месте вспыхнуть с новой силою. И в том, что мятеж тлел, всякий год принимая новые обличья, виделась Божья кара.
Потому царь повелел лишь осадить монастырь, постоянно стесняя его плотным присмотром, чтобы не везли туда ни живности, ни припасу. Но, сидя в престольной, он лишь с чужих слов представлял островную жизнь и не ведал поморского духовного согласия, коим было плотно окружено монашеское житье. Кроме каменной стены еще стояла слитная переграда людской любви и ревностной помощи. Монахи были в большинстве своем из местных, состояли во многом родстве, да и Поморье не могло кинуть на голодную смерть своих верных молельщиков.
Царь наказывал Волохову: «А ратных людей, которые с тобою присланы по наряду, для приступов к монастырю не посылать, и из пушек по ограде не стрелять, и никакого воинского промыслу над монастырем не чинить...»
И чтобы не бросить тень на государя, Волохову вчинили в вину то, что он якобы архимандрита Иосифа в Сумском острожке драл за бороду, волочил за власа, потом всадил в тюрьму и заковал в кандалы; де, стрельцов своих призывал к мятежу, чтобы грабили те монастырскую казну; и якобы окружил себя попами-самоставленниками и прямыми еретиками; да всяко неволил оброчных мужиков и усольских приказчиков, требуя от них мзды...
В июне семьдесят второго года прибыл на смену Волохову стрелецкий воевода Клементий Алексеевич Иевлев. Команду в шестьсот человек сумел переправить на Соловецкий остров и даже пробовал осадить монастырь, послав несколько семифунтовых ядер из единственной большой пушки в тринадцать пядей в длину, но скоро не стало свинца и пороху; а когда пошли приступом с лестницами на стену, то вдруг обнаружилось, что двинские стрельцы к военному делу не свычны, оказались не только артиллерийскому бою, но даже и пехотному строю не учены. А ежедень ествы горячей подай им, и квасу монастырского, и бражного ковш, чем бы умаслить сердце, да жалованьем не тесни; опять же нужны подводы и лошади, и корм, морские лодьи, кормщики и гребцы. А городничий Иоиль, что был оставлен вместо архимандрита Иосифа, совершенно отстранил воеводу от хлебной житницы, от соляных угодий и казны.
В зиму жить на острову воевода не решился и съехал на берег, в Сумской посад. Но по весне, когда вскрылось море, вернулся назад, не зная, что еще предпринять. Боясь навлечь на себя государеву немилость, решился, однако, и перебил монастырский скот, выжег вокруг обители дрововозную избу, конюшенный двор, сенной сарай, и сетной амбар, и солеваренные станы, и ледники, и кельи трудников и служек; в общем, совершил то, к чему не могла монастырская братия приступиться, жалеючи добро; и когда полыхнуло пламя, то, мало погоревав, вдруг мятежники вздохнули спокойно, ибо трудное для сердца дело, но необходимое, было исполнено по Божьему изволу вражьими руками.
Иевлев с неделю и пробыл под обителью и, ничего не добившись, окончательно вернулся в Сумской острожек и вскоре был затребован в Москву.
Братия же порушила щанцы у Никольских ворот, расчистила гари, высекла лес у губы Глубокой и вокруг Святого озера, и стало под обителью пустынно, как на ладони, просторно взгляду, и ни одному лазутчику отныне не прокрасться под стены; разделали лес на дрова и сволокли в обитель, уставив и двор, и каменные печуры, переграды и простенки поленницами лет на десять; в тепле-то с готовой растопкой только мертвый не живет, а ленивому и старцу вовсе безунывно и смело...
Бельцы и наймиты в конце июня вскопали, как и прежде, огороды, насеяли репы, взяли под осень дивный урожай и нарубили репного крошева зимы на две всей братии на шти. Да грибов по осени наломали телеги, наварили и насолили кади, да ягоды голубели и черницы натомили ушаты, да бочки брусники замочили, да морошки наквасили; а с этой лешевой едой и вовсе не тужи, христовенький.
Да тогда же наловили соловецкой жирной сельди, зверя набили для сальниц и сапог да поехали на Анзерский остров к монахам и там купили сто пуд палтосины, да к ним же приплавил из Ковды крестьянин Евсютка, верный закоперщик, сто пуд рыбы, да кемляне доставили сорок пять пуд трески, а сумляне – тридцать пуд масла, хоть какая-то будет прибавка к тем запасам, что еще хранились на погребицах. Да в Мезени и Кеми прикупили сукон, холста на рубахи, кож да овчин. Да в Великий же пост зерно наново перемерили и переносили в другие амбары у Святых ворот и одну житницу насыпали полную ржи, а другую – муки, и получилось хлебного запасу лет на семь-восемь...
Торопились монахи, чуя грядущую цареву немилость; гроза долго, молчаливо темнится, глухо ворча, но когда-то и грянет; долго запрягает государь военные обозы и тихо попадает к мятежникам, дожидаясь смирения, но когда-то и здесь будет.
От Никольских ворот до Квасоваренной башни стена была низка, кладена кирпичом, и чернцы нарубили поверх бревенчатые тарасы и покрыли крышею; а башня Квасоваренная оказалась низка, так из колотых плах накатали раскат деревянный для пушек; да от Анофриевой церкви на сушильной палате натесали помост для крепостных пищалей верхнего боя, и по всем обломам и башням вдоль стен разоставили на станах шестьдесят три крупных и мелких крепостных пушки, годных к бою, и натаскали из погребов ядер, и сложили грудками в печурах, да принялись же бронные мастера занаряжать гранаты, благо пороху в казне под Геронтовой кельей оставалось бочек с шестьдесят, а в каждой пудов по десять...
Да слабых старцев двенадцать человек выслали из монастыря на берег, чтобы зря не переводить хлебов; но тут же и запоздало опомнились мятежники, решили лучше морить несогласных в тюрьме, чем плодить изменщиков.
И как в воду глядели...
Дробненькое нынче белозерское небо, веселое, как бы писанное травами чуткой художной рукою; малахитовая нежная зелень вчастую испрошита алыми жилами, и не поймешь, то ли кровца жертвенная сочится, то ли малиновый густой узвар пролился из опрокинутой братины в господевых покоях. От благостного неба и душа-то, не устающая дивиться неиссякаемой Божьей нежности, скоро кротеет и полнится ответным доброрадным проникновенным чувством. И не диво ли, братцы?! ведь в гнилой угол западает солнушко, в темные каморы, в тесные юзы опеленают его во всю долгую ночь, а оно вот, неиссякновенное, и напоследях посылает коченеющей земле ласковые улыбки...
... Боже наш, помилуй нас!
Легкий ветер-шалоник потянул, влажно обдул лицо, и если слизнуть с усов, то останется на языке легкая медовая сладость: то из палестинских Христовых земель принесло нарда и фимиаму. В берегу уже припорашивало сутемками, и там заморщила хрустальная вода-наледица; в промоине близ виски, где не вчера ли еще стояли рюжи, нынче к вечеру промыло стрежь, и у края ломких овсяно-желтых камышей бухали хвостами вешняки-молоканы, обхаживая маток, то и дело показывалось над водою жесткое щучье перо и обмысок пятнистой сзелена спины.