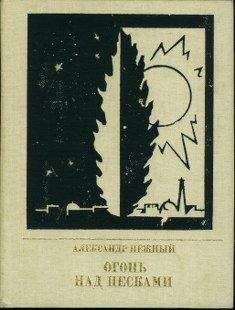— С Оскоцким я немного знаком, — решился и вставил все-таки Савваитов. — Он пропагандист этого глупого языка… эсперанто, но в остальном человек вполне порядочный.
Николай Евграфович хотел сказать что-то еще, но, взглянув сначала на Аглаиду, а затем и на Полторацкого, замолчал и застыл в излюбленной своей позе — со склоненной головой и сомкнутыми на набалдашнике палки руками.
— Вам кто посоветовал ко мне обратиться? — после затянувшегося молчания спросил Полторацкий.
Совсем, впрочем, не имело значения, кто именно указал на него Аглаиде. Но в их молчании стало ощущаться уже нечто тягостное — как бы от предчувствия, что Аглаида просила напрасно и ее брат обречен. Подробностей дела Полторацкий не зная, но суть помнил отчетливо. Там выяснились связи и намерения для республики самые опасные… Из Ташкента в сундуках с двойным дном, между пружин каких-нибудь клоповых кушеток, в телегах с весьма хитрыми тайниками везли гранаты, винтовки… даже пулеметы везли, за которые «Кокандская автономия» и Иргаш платили по двадцать тысяч. Дело серьезнейшее! Убили часового, пожилого человека… осиротили детей, их у него четверо осталось… Калягин, она говорит, вывернулся, свалил на ее брата, но в конце концов Калягин ли (маленький, с очень быстрыми, юркими глазами и пухлым, несколько женским лицом), брат ли Аглаиды, — убили и пытались вывезти оружие они. Он глянул на Аглаиду с неприязнью: когда они часового жизни лишали, о детях его не думали… Вдова со всеми четырьмя приходила к нему, просила о пенсии. Мальчику самому маленькому три года, его малярия трясла, он плачем захлебывался у матери на руках…
Внимательно, будто в первый раз, но уже без всякого смущения, напротив, даже с излишней пристальностью посмотрел он на Аглаиду. Теперь она смешалась под его взглядом и быстро, все комкая, объяснила, что есть у нее знакомая… Ксения Тарасова… служит в комиссариате труда… она-то и дала ей добрый совет искать помощи у Полторацкого.
— Она о вас говорила очень хорошо, — прибавила, робко улыбнувшись, Аглаида. — Говорила, что вы все поймете и непременно поможете.
Саввантов кивнул одобрительно.
— Разумеется! — произнес он даже с гордостью, словно иначе и быть не могло, и другой, менее достойный человек в его доме никогда бы не поселился.
Они теперь, про себя невесело усмехнувшись, подумал Полторацкий, ждут от него твердого обещания непременно заняться и Михаила Артемьева от расстрела спасти. Он ей брат, у нее сердце разрывается, а Николай Евграфович по доброте своей ей сострадает. Но сразу же и с изумлением отметил Полторацкий, что и ему больно видеть, как дрожит и морщится ее подбородок, как наполняются слезами глаза и как приобретает умоляюще-скорбное выражение ее лицо. Вообще, была какая-то удивительная, почти пугающая странность в том, что лицо Аглаиды, в едва заметной россыпи веснушек, особенно глаза ее с их ясным светом доброты, строгости и печали, казались ему несомненно, до жаркого стеснения в груди знакомыми, очень близко знакомыми, словно давным-давно, может быть, с самого рождепня, наделен он был знанием об этой женщине и предчувствием непременной встречи с ней. Она сама отыскала путь к нему, не вполне, правда, по собственной воле, но ведь пришла, сидит сейчас подле него, и он волен смотреть на нее, с каждым взглядом все крепче утверждаясь во внезапной своей догадке, что ее-то и ждал, что обвалы и потрясения времени не заглушили в нем тайной надежды, хотя наружно давно уже махнул он рукой: не суждено, знать! Он помрачнел. Брат ее — белая гвардия, враг, это ясно. Быть не может, чтобы похож он был на нее. Он вместе с Калягиным (их целая группа была: восемь человек) оружие поставлял туркестанской контре… Не их ли винтовочки в Асхабаде постреливали? В сей же миг опять возник перед ним Андрей Фролов и темным пристальным взором, хмуря тонкие брови, на него взглянул как бы несколько свысока, словно сказать хотел: что ты обо мне понимаешь и что ты судишь меня, в Ташкенте сидючи?
Он перевел дыхание и, прикрыв глаза ладонью, проговорил медденпо:
— Я с этим делом знаком немного… Трибунал разобрался… решил. Там все доказано. Мне ваше горе понятно, я вам сочувствую… но вмешательство мое бессмысленно. Да я и вправе себя не считаю вмешиваться…
— Павел Герасимович! — потрясенно вскрикнул Савваитов. — Тут ошибка, явная ошибка, она жизни будет стоить! Вы должны… обязаны… вы полное право имеете вметаться и поправить, пока не поздно! Как! — с неожиданной резвостью поднялся он со стула. — В ваших возможностях спасти человека, восстановить справедливость, в вы предпочитаете умыть руки… Мне старость моя не позволяет фальшивить, и я скажу, что у меня о вас иное мнение было, Павел Герасимович!
Полторацкий поморщился. Немного значило для него сейчас мнение Савваитова. Неизмеримо важнее было то, что он знал совершенно точно — эта его встреча с Аглаидой первая и последняя. А Николаю Евграфовичу ответил:
— Поменьше горячности, побольше рассудка. Тут сразу два преступления — против человека и против республики…
— Мой брат, — едва выговорила Аглаида, — не совершал преступлений… он не преступник…
Она быстро бледнела, веснушки на ее лице делались заметней.
— Я воды принесу! — шагнул было к двери Савваитов, но она остановила его, окрепшим голосом сказав:
— Не волнуйтесь, Николай Евграфович, я в обморок падать не собираюсь. Мне только стыдно… перед самой собой, перед мамой, перед братом моим стыдно, что я пусть даже на секунду самую крошечную поверить смогла, будто у этих людей есть понятия о добре, справедливости и милосердии…
— Но ведь вы, Аглаида Ермолаевна, именно ко мне… одному из этих людей… и пришли за справедливостью и добром…
Но что были ей тихие его слова!
— Да вы просто жестоки! — говорила она, глядя на него, — с похолодевшим, отчаявшимся сердцем увидел он, — не с гневом, что было бы еще не столь безнадежно, ибо гнев есть чувство непостоянное (хотя какие ожидания, какие надежды! — тут же уличил он себя в мгновенной и совершенно безосновательной мечте), а с презрением, которое как бы впитывается в кровь и оттого сохраняется надолго. — Для вас жизнь человеческая ничего не значит… Господи! Недаром… недаром я идти сюда не хотела… Только через великую силу пошла! Просить… унижаться… Перед кем?! Брат, если б узнал, мне не простил бы…
Тут запылало и в нем.
— Это… как… же… — хрипло вымолвил он, с немалым трудом выталкивая слова из пересохшего горла. — Может, тогда и часового при складе не ваш братец с компанией своей на тот свет отправил? Милосердия и справедливости! А у того часового детишек четверо осталось, — вы что ли кормить их будете? Доброты, значит, желаете, Так отчего ж только от нас? Отчего у брата у вашего даже и мысль не пробилась, что, может, не стоит Калягину оружие продавать? Ведь не на стенку же вешать покупал у него маузер Калягин! Он стрелять… он убивать собрался, и брат ваш ему первым помощником стал! Вот как, Аглаида Ермолаевна, получается… Поаккуратней бы вам следовало поэтому с добротой и милосердием…! Я вам даже больше скажу, — продолжал он с внезапным мучительным восторгом и как бы на веки вечные, окончательно и бесповоротно, свергая себя в прежнюю свою; жизнь, где не было и никогда уже не будет женщины с ясными глазами Аглаиды, — скажу, чтобы вы поняли… Революция должиа уметь за себя постоять, ей иначе не выжить. Вы мне на это ответите, что невинные гибнут. Нет, Аглаида Ермолаевна! Вполне невинные не гибнут даже сейчас, хотя времена наши смутные… тяжелые времена… Гибнут враги… или те, кто назавтра врагом станет. Уж лучше тут ошибиться… — со слабой улыбкой вымолвил он, — лучше тут, как ни страшно это, — упрямо повторил он, — чем допустить, чтоб революцию умертвили.
Отвращение ясно проступило на ее лице. Она встала и, ни слова не говоря, вышла из комнаты, и вслед ей, осуждающе покачивая головой, двинулся Николай Евграфович. С тихим скрипом закрылась за ним дверь.
Поднялся и Полторацкий и зачем-то, словно намереваясь их догнать и вернуть, шагнул к двери и даже за ручку взялся, но, постояв так, разжал пальцы, сразу сделавшиеся влажными, повернулся и тут же встретился взглядом с задумчивыми глазами печального юноши в черной косоворотке — сына Савваитова. «Вот так», — покивал ему Полторацкий, быстро разделся и лег, намереваясь сию же секунду заснуть мертвым сном. И в самом деле, — сознание его начало цепенеть сразу, в тот же миг, едва коснулась подушки голова; но уже из блаженной густой теплой темноты вдруг выплыла одна мысль… Он открыл глаза и несколько секунд ошеломленно глядел прямо перед собой, на стену, чуть освещенную падающим из окна светом полной луны. Это даже не мысль была, а воспоминание и поначалу довольно смутное. Звук шагов как бы послышался ему вновь— с крыльца савваитовского дома, затем по дорожке, мощенной камнем, и дальше, прерванный бряканьем щеколды и скрипом открываемой калитки, в сторону Туркестанской, по переулку… Сомнений быть не могло: к себе на Чимкентскую Аглаида отправилась одна, Савваитов ее не провожал! Да если б и пошел с ней — какой в случае чего от старика толк? Ему, Полторацкому, надлежало быть с ней рядом в ташкентской, полной всяческих опасностей ночи! Но сразу же и безнадежно откликнулось: никогда, ни за что бы не допустила… «И ладно, и хорошо», — растравляя себя, со злым чувством подумал он, однако, едва вообразив, что, может быть, сейчас, в эту вот самую минуту, останавливают ее ночные забавники, не страшащиеся покуда неокрепшей руки новой власти, — он приподнялся резко и с колотящимся сердцем вслушался. Тончайшим звоном наполнилась тотчас жаркая тьма за окном, в тишине и мире проходила ночь, без криков, выстрелов и тревожной сумятицы… Он вздохнул успокоенно, припомнив кстати, что до Чимкентской отсюда рукой подать. Домой уже пришла Аглаида… Но не любить ему никогда и любимым не быть!.. Горько стало ему, но в этой горечи оказалась вдруг и отрешенность от себя… И себе в утешение осторожно, как бы на ощупь, можно было вообще усомниться в достижимости счастья, ему тем более совершенно заказанного. В конце же концов, если верить, что всегда сопутствует счастью боль, что они нераздельны, то он, стало быть, истинно счастлив — той болью, которая охватывает все существо его при мысли об Аглаиде.