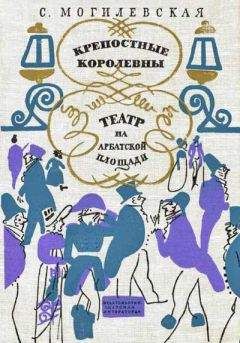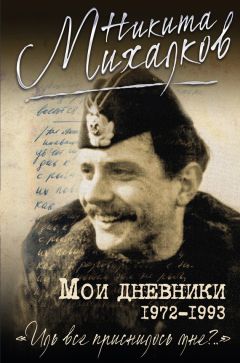Тут Степан Акимыч затянул тоненьким фальцетом:
Лишь взойдет заря багряна,
В гости к бочкам я хожу…
Весь театр лег от хохота — ни складу ни ладу! И слова перепутал, и ноты не те, и с оркестром полный разлад. А Сила Николаевич? Да нимало не смутившись, махнул оркестру, чтобы не играл, спел арию без музыки до конца, а потом, подойдя к рампе, как бы по секрету изволил сказать публике некий экспромт:
Пусть себе театр смеется,
Что успел певца поддеть.
Сандунов сам признается,
Что плохой он мастер петь.
Что тут было, сударушка! Человеческими словами не передать… Многажды заставляли Силу Николаевича повторять сей экспромт.
И на этот раз Санька хохотала до упаду. Что и говорить, по душе ей пришелся веселый и смелый Сандунов. Это заглазно. А когда увидела его на сцене, все ладони отшибла, надорвала голос, до того кричала вместе с публикой: «Фора! Фора!»
И повадилась она бегать на спектакли каждый вечер. Да что там каждый вечер… Отработает свое, полы подмоет, где надо приберется да поскорее за ту боковую кулису, куда первый раз Степан Акимыч ее поставил. Если бывала свободна днем, и на репетициях сидела. До того ей было все интересно и завлекательно, что ни единого спектакля не пропустила.
И уже было ей не смешно, в кулак она не фыркала, не удивлялась, что люди взрослые и даже старые ведут себя не по-людски. Стала понимать, когда толстяк актер, бухнувшись на колени, просит, молит, руки вздевает вверх, а встать ему трудно, так оно и полагается, так оно и надобно роль играть, потому что в пьесе —: в трагедии али в комедии — должен быть вот эдакий толстяк, хотя, по правде, таких не бывает и быть не может. И в жизни так не разговаривают, так не смеются, как на сцене, а смотреть на все завлекательно, сил нет…
Вскоре Санька так освоилась, что знала и на сцене, и в самом театре каждый уголок и каждый закоулок. Знала в лицо и каждого актера и актрису не только из русской труппы, но наперечет всех французов. Кое с кем и здоровалась. И многие, приметив бойкую внучку суфлера Акимыча, тоже с ней здоровались, называли по имени.
А с плотниками, которые работали на сцене — меняли декорации, поднимали и спускали занавес, зажигали свет на рампе и в других местах, — с теми была и вовсе запросто, на равной ноге. Нередко сама им помогала: устраивала гром, дождь, ветер, для этого пересыпая в ящиках камни или песок. А то и покрикивала на них: «Вы что, оглохли?! Не слышите? Дедушка два раза из своей будки веревку дергал, сигнал на занавес подавал… Капитон, Иван, занавес спускайте, да живее!»
И не удивлялась теперь Санька, когда по нарисованному небу ползли нарисованные облака или сверху спускались боги, богини, а то и раззолоченный трон для какого-нибудь царя. Знала и про люк в полу сцены. И когда надо устроить актеру провал под землю, стоит лишь открыть крышку этого люка, как все и получится в наилучшем виде. И хоть удивление первых дней у нее сменилось Знанием всех хитростей и уловок сцены, пристрастие к театру от этого ничуть не уменьшалось.
Как все это время существовали они с дедушкой Акимычем? Это разговор другой.
Хоть и дедушка Акимыч работал, не жалея своих стариковских сил, хоть и Санька трудилась на совесть, а частенько сидели они впроголодь. Не платила им дирекция положенных денег. Актеры, те получали более или менее исправно, а вот им, мелкому люду, не хватало. Особенно часто забывали про старого суфлера и про Саньку. Но ведь жили же, не помирали…
Иной раз вспоминался Саньке прежний дом — чего-чего только не водилось в тамошних закромах, и в погребе, и в подполе, и в чуланах! Да сотню людей можно бы кормить досыта, и не один день. Бывало, непочатая бочка солонины стоит, а матушка-покойница тревогу бьет: «Скорей, скорей свинью резать, на исходе мясо… Чего есть будем?» Ну, а мачеха Степанида, та еще беспокойнее. Всем в рот глядит, чтобы лишнего не ели, чтобы закрома не пустели, чтобы чуланы не перестали ломиться от всяческих припасов…
А у них с дедушкой Акимычем — и смех и грех! — подымутся утром, хлебной корки нет. «Ну, — скажет он Саньке, — подавай, сударушка, стерляжью уху, да бараний бок с подливкой из шампиньонов, да бланманже из ананасов…» А Санька ему: «Сейчас, сейчас, дедушка! Имеются у нас и щи с говяжьим завитком, каша с рублеными яйцами и мозгами. Вот объеденье!» — «Тащи, тащи, Санечка, и щи и кашу. На пустой желудок все сойдет!» Так они подшучивали над своим житьем-бытьем.
Но вот чудеса — откуда-то что-нибудь да являлось! То Анюта притащит: «Санечка, дедушка, вот вам пироги с требухой… Фекла приказала снести. У нас опять суаре было, так гости не доели…» Или Акимычу за переписку роли должок вернут. А то и Саньку кто-нибудь попросит куда-нибудь сбегать, всё пятак дадут, а то и поболее отвалят. И Санька несла свою денежку в каморку.
А то вдруг дирекция вспомнит и заплатит им, что положено. Ну, и пойдет тогда пирование.
Но если бы кто ее спросил, променяла бы она теперешнюю свою жизнь на прежнюю, сытую, — плечами бы пожала: да ведь не хлебом единым жив человек!
Так минул октябрь, проходил ноябрь, не за горами был и декабрь. Недаром в народе говорится: «Году конец — зиме начало». А как начинать зиму, когда ничего нет — ни шубейки теплой, ни сапог теплых, ни платка теплого?
Глава пятая
О том, как снова встретились Санька и Федор
Зима, неуклонно приближаясь, тревожила Саньку чем дальше, тем больше. Иной раз думалось: найду-ка батюшку, попрошу, чтобы привез мой тулупчик, да сапоги валяные, да все иное, что оставила дома. Но, как говорится, ноги не шли в ту сторону, где могла бы увидеть отца. А ну как и мачеха с ним на торгах? Не забылась та встреча. И не забудется никогда. Мысленно видела, каким злорадством загорятся у Степаниды глаза, когда она, Санька, придет к отцу. Скажет: «Приползла все-таки…»
Нет, нет, не станет она унижаться!
Так все тянула, тянула и дотянула до белых мух. Как-то утром глянула в оконце, а за стеклом медленно-медленно, будто не желая расставаться с небом, летели на землю крупные мохнатые снежинки. Летели и кружились, летели и кружились… А покружившись, вроде бы нехотя садились куда вздумается — и на крыши домов, и на мостовую, и на золотые маковки церквей.
Начиналась зима. Да ведь и самое время — пришел декабрь.
В тот день Санька все-таки решила найти отца. Выйдя на улицу, поежилась; студено, знобко… Снежок перестал падать, заголубело небо, и мороз схватил лужи на мостовой. Лежали между затвердевшими колеями гладкие, еще не тронутые колесами льдинки. Они ясно поблескивали на солнце.
Подумала: Федора бы где-нибудь по пути не встретить… Не хотелось, чтобы увидел он ее сейчас замерзшую, посиневшую да в летнем сарафане. Хорошо хоть, накануне Анюта принесла ей теплый платок. Закутавшись в него, побежала вдоль Арбата в сторону Смоленского рынка. Знала, что отец частенько приезжал туда с товаром. Может, и сегодня там. Издали поглядит: ежели один — подойдет к нему, попросит тулупчик. Ну, а коли мачеха при нем — не судьба, тогда поворачивай, Саня, оглобли назад, нечего тебе на сей раз делать…
А Федора она многажды видела за кулисами театра. Знала все его привычки: и в какое время являлся со своими баклагами, и где продает актерам сбитень.
Помнится, как первый раз вдруг услыхала знакомый голос: «Кому сбитня? Кому горячего, имбирного, медового? За кружку — полушку! За две кружки — две полушки, а три — даром бери!» — вся сомлела. Заревом щеки залились. О господи, ведь он, Федор! Неужто? Он, он!..
Сперва хотела объявиться, кинуться к нему, крикнуть: «Федя, вот я!» Постеснялась. Но, спрятавшись за какой-то размалеванный холст, смотрела на него, любовалась им. И налюбоваться не могла. Милый ты мой! Соколик ты мой! Да как же я рада тебе… Оно, конечно, и балеты, и трагедии, и комедии манили се каждый день за кулисы, однако — чего душой кривить! — всякий раз, когда летела спектакли смотреть, загадывала: Федя будет ли? Придет ли сбитнем торговать?
Часто подговаривала и плотников и всех иных:
— Не слышите, что ли? Сбитенщик явился. Скорее идите, пока не распродался.
— А ты-то сама напилась уже? Отвечала, лукаво поблескивая глазами:
— Не по вкусу мне сей напиток… — И сама над собой посмеивалась: не по вкусу… Как же! Еще как по вкусу этакий сладкий, душистый, да чтобы Федор сам в кружку налил, да чтобы при этом ласковое сказал…
Смотря на него исподтишка, спрятавшись среди декораций, думала: «Забыл он меня, неразумную, али еще помнит?» Иной раз и сердилась на себя, что сама никак не может его позабыть, что смотрит на него, любуется его красотой, что хочется перекинуться с пим хоть каким-никаким словцом, а подойти и сказать: «Здравствуй, Федорушка!» — такой решимости нет… А он бы как? Приветил бы ее?