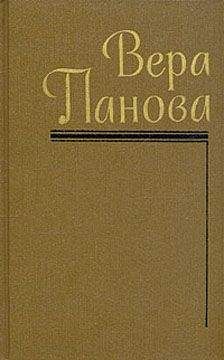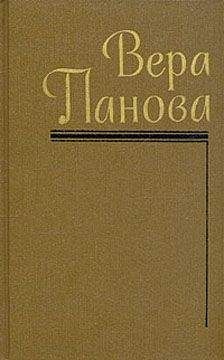Немало воды утекло в Днепре, пока ходил Василий к Ефрему. Но даже краткого списка было достаточно, чтоб еще слышней разнеслась молва о печерских подвижниках. День и ночь хлопотал Феодосий об их душевном благообразии. И лишь когда изнемогал и ропот подымался к самому горлу его, передавал управление иноку Стефану, уходил в свою старую пещеру, где всё падала да падала медленная капля со свода, и затворялся там от мира с богом наедине.
* * *Между тем его мать жила в Курске и не знала, что сталось с ним.
Слуга посадника сказал, что Феодосий пошел на богомолье. Но слуги, посланные вдогонку, вернулись ни с чем. Потом был слух, будто видели его, как он шел в Иерусалим с каликами перехожими вдоль берега Сейма. Кто-то будто с теми каликами у их костра поужинал. И всё. И терялся след.
– Может, – говорили люди, – он так там в Иерусалиме и остался. А либо спасается на Афонской горе. Если, конечно, не случилось что-нибудь по дороге. Всё может быть.
Через сколько-то лет рассказали, что кто-то юный и прекрасный собой ходит по земле вятичей и бесстрашно проповедует слово Божье. Что ему покоряются медведи и волки, и разбойники в тамошних лесах его слушают.
– Может, – сказали люди, – это твой сын. Он тоже был юный, и любил слово Божье, и не боялся, вспомни, даже тебя. Если только, конечно, не убьют его вятичи, это же племя дикое, опасней волков и медведей.
– Ну, только найти мне его! – говорила мать. – Только мне до него добраться – всю шкуру спущу!
Она по-прежнему сладко ела, приближала к себе молодцов и ходила по дому подбоченясь.
Но годы шли, и ее красные, как яблоки, щеки сделались желтыми и отвислыми. Стали ноги побаливать, одышка явилась, и не в охотку ей стали молодцы.
Задумалась. Сидит у себя в комнате при светильце и думает. Пристрастилась гадать. Как услышит про нового кудесника, так и спешит к нему или к себе призывает.
Кудесники и кудесницы ей гадали и на бобах, и по звездам, разводили огонь и после, шепча, водили по пеплу пальцами. А то в миску с водой бросали бубенчик с Феодосиевой шапочки – он эту шапочку носил, когда был маленький, – и приказывали матери в воду смотреть, что там откроется.
Но ничего не открывалось ни в воде, ни в пепле, ни в звездных россыпях. А годы шли.
И, глядя с ужасом, как закатывается ее жизнь, раскаялась мать, что так обращалась с Феодосием. Поняла, что не было у нее лучшего сокровища, чем сын ее единственный. Что все ее амбары, и лавки, и сёла, и рабы, и собственная плоть, которую она так ублажала, – ничего ей не нужно, только Феодосий нужен.
Как жестоко было ее сердце в молодости, так жестоко было теперь ее раскаянье. В муках доживала век, потеряв надежду на утешение.
Но хоть и угасла надежда, а всё же, когда заходили в дом странники, она к ним спускалась на своих больных, отекших ногах и расспрашивала, не слыхали ли где об ее сыне, много лет назад ушедшем от нее.
И вдруг один древний старик сказал:
– Много лет назад был я в Киеве, искал, где бы постричься, и со мной ходил один юноша. Я тогда был еще не без силенок и хотел загодя прибиться к какому-либо месту, чтоб мне в покое и устройстве встретить старость и дожидаться смерти под теплым кровом, не заботясь о куске хлебушка. Но ни в один монастырь меня не принимали, требуя вклада. И так же не принимали никуда того юношу. И я на них рассерчал и пошел по белу свету просить милостыню, так с тех пор и хожу, а юноша сказал: попрошусь пойду к Антонию, который живет в пещере; может, говорит, он меня примет без вклада. И я думаю – не твой ли это сын был.
Этот старик в поварне сидел в тепле, разувшись, и ел что ему дали, но утер бороду и встал, разговаривая с госпожой.
– Звали-то как? – она спросила, трепеща. – Имя его?
– Имя, госпожа, звук бесплотный: прозвучало – и порх из памяти.
– А каков был собой? Высок ли ростом, какие глаза у него были, какие волосики?
Старик ответил:
– Это помню как сейчас, что росту высоконького, а в плечах узковат.
– Точно!
– Глазки, очень помню, небольшие, серенькие, с маленькими веками, в глубину запавшие, и из глубины мерцали тихим светом.
– Дальше говори!
– И всё этими веками вот так помаргивал. Болели они у него, или чего боялся, или не хотел лицезреть, что в мире деется.
– Всё говори, что помнишь!
– Весь лик его тихий, и узкий, и бледный, и губы безответные.
– Ах, безответные!
– И всё будто шепчут что-то.
– Молитву!
– А волосики как лен светлые и тонкие.
– Он! – сказала мать. – Господи, он! А не открыл тебе, откуда родом и кто его родители?
– Говорили, – ответил старик, – будто из богатеньких. А родители кто, не знаю.
– Я уверена, это он, – сказала она. – Сердце мне говорит мое материнское.
И сразу начала собираться в дорогу. Старику же велела жить пока в ее доме и распорядилась, чтоб его кормили наилучшим образом.
– Если сердце меня не обманывает, – сказала ему, – и я по этому следу найду его, и он, голубчик жив, – до самой смерти останешься, дедушка, под моим кровом. А если я помру раньше, то упомяну тебя в завещании, не придется тебе заботиться о хлебе. Так что молись хорошенько, чтоб мне не обмануться.
* * *Была зима, от морозов земля трещала. Мать надела две шубы, валенки, кунью шапку, поверх шапки повязалась теплым платком. В санях зарыли ее в рядна, в медвежьи шкуры. За санями ехали верховые в овчинных тулупах. Лошади покрыты были стегаными попонами и выпускали облака из ноздрей.
Долго ли они ехали, останавливаясь на постоялых дворах, где матери отводили покой получше; как ледяные ветры обдували их в пути и метели заметали; много ли денег раздала мать по встречным церквам во здравие сына – можно бы особо порассказать, да это неважно. Важно, что она доехала до Киева и узнала, к великому своему счастью, что ее Феодосий жив-здоров и неподалеку в обители обретается игуменом. И через посланного слугу испросила позволения с ним повидаться. Феодосий находился в затворе, позволение дал Стефан. Он отрядил послушника ее проводить. И, пробравшись вслед за послушником по глубоким сугробам к пещере Феодосия, мать стояла под снегом и выкликала:
– Сынок, а сынок! Ты где там, родимый, ау! Это матушка твоя тебя кличет, отзовись! Я тебя все годы искала, уж не чаяла найти, только думала – где-то твоя могилка. Да, видно, Бог меня пожалел.
Снег падал на нее с серого неба, и со страхом она смотрела на заваленную сугробом дверь, за которой находился ее сын. Не дверь даже, а так, доска. Только что окошечко в ней прорезано и дощечкой загорожено изнутри; в том проступала человеческая забота; иначе и не угадать бы, что кто-то тут живет. Мать шепнула послушнику:
– Трубы не видать, неужели у него печки нету?
– Вестимо, нету, – сказал послушник. – Ему спасаться, а не кости греть.
Еще холодней, еще страшней стало от этих слов. И дрожал материнский голос:
– Гей, откликнись! Сыночек! Голоса моего, что ли, не узнал? Или уж очень ты там глубоко – не слышишь?
А может, подумала, это я не слышу. Он говорит, а мне не слыхать через платок.
И выпростала уши из-под платка. Но опять ничего не услыхала.
– Похоже, нет его там.
– Там он.
– На молитве, наверно, стоит… – И чтоб задобрить Феодосия, она заговорила весело: – Если стоишь на молитве, я мешать не стану, молись себе. Столько лет ждала, еще немного подождать нетрудно. С летами-то мудреет человек, сама теперь не пойму, как это я запрещала тебе жить по-божьему. В безумии своем, подумать только, тебя считала безумным, а о тебе гляди как говорят в Киеве – как о знаменитом и славном муже. Как же мне радостно будет, ты бы знал, посидеть с тобой рядышком, о делах твоих расспросить, погордиться!
И стала ждать, пока от горней беседы он снизойдет к земному свиданию. Подождав, попробовала его поторопить:
– Да ты уж не забоялся ли меня? Смешно бы, право: я нынче старая, хворая, стою – шатаюсь, а ты в самой зрелой поре. Смотри не заплачь, как увидишь, какая я стала. Если б и хотела, не смогла бы на тебя руку поднять. Да и не захочу, милый, не захочу, боль ты моя. Не с тем вовсе пришла. Повидать тебя пришла, пока еще ноги носят; полюбоваться на твое светлое личико. Покажи мне его, сыночек. Покажи твое личико.
Снег шел, шел и насыпал ей на плечи и голову белые холмики, и всё глубже уходила в снег, так что ноги стали стынуть даже в валенках. И как ни вооружалась терпением, но слишком сиро и жутко было стоять и стыть перед серой доской, и опять она не выдержала:
– Вздумается же такое. Чего б ты испугался старухи? Я знаю, почему не отвечаешь. Думаешь – начну тебя уговаривать домой вернуться. Заманивать, мол, буду, прельщать, как сатана Иисуса прельщал. А то расхнычусь, чтоб ты меня, одинокую, не покидал на старости лет. Так нет же, мой голубчик. Ни жалобиться, ни улещать, ничего того не будет, не опасайся, мой душенька.
И такое говорила, плача:
– Быть того не может, чтобы твое сердце настолько на меня ожесточилось, чтоб пожелать наказать меня так ужасно! Если же в этом дело, то прошу тебя и заклинаю – вспомни не только мое злое, но и доброе. Я тебя в утробе носила, сосцами вскормила, я тебе рубашечки из шелка шила, на шапочку серебряные бубенчики нашивала! И истязала-то, добра тебе желая, чуяла ведь, чем всё оно кончится!