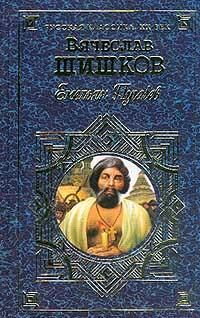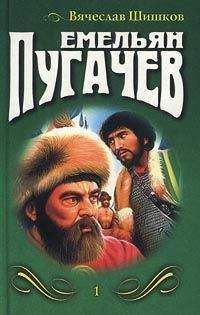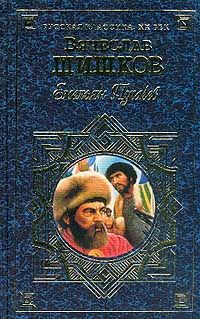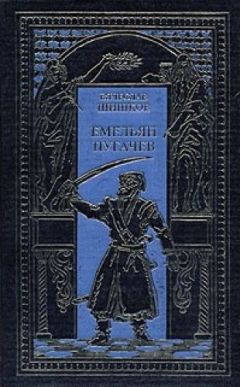– Пошто так?
– А кто такой покойный Петр Федорыч, имя которого вы носите? – продолжал Горбатов. – Голштинский выкормок, вот кто. Россию он не знал и ненавидел ее. Что ему Россия, что ему простой народ? Да и сам по себе он был царек ничтожный... Бездельник он великий и пьяница!
Снова наступила тишина. Из груди Пугачева снова вырвалось шумное дыхание. Он никогда не слыхал подобных слов: они ударяли его в сердце. Потемневший взор его светлел. Откинув упавшие на глаза волосы, он приблизился к Горбатову, опять положил ему руки на плечо и взволнованно сказал:
– Милый... Друг... Уж ты прости меня, ежели пообидел. Ведь я, мотри, иным часом, как порох. Уж не взыщи! Может, ты и прав... Только, чуешь, хитро, ой хитро ты говоришь... И со смелостью!
Охваченный внезапными мыслями, он неторопливо повернулся и – нога за ногу – подошел к окну. Стоя спиной к побледневшему, еще не пришедшему в себя Горбатову, он грыз ноготь и что-то разглядывал за окном в глухой ночи.
«Народа вождь... Выше царя...» – каким-то далеким эхом продолжали звучать в его ушах набатные необычные слова... «Выше царя... Неужто так-таки выше?»
Молчание длилось долго. За дверью мяукала кошка. Атаман Перфильев под знаменем, открыв усатый рот, похрапывал, бредил. Горбатову стало неловко. Он вздохнул и, с особой любовью поглядывая на широкую спину Пугачева, произнес:
– Покойной ночи, ваше величество!
Пугачев, не поворачиваясь, отмахнулся рукой. Горбатов, придерживая саблю, на цыпочках вышел вон.
Вскоре из Оренбурга прибыл в лагерь пожилой казак Оладушкин, дальний родственник Падурова, привез ему от жены с сыном поклоны и благословенный образок святителя Николы. Он едва от слез удержался, когда узнал, что Тимофей Иваныч без вести пропал.
– Эка, эка беда стряслась!.. Сокол-то какой был...
– А ты сам-то как до нас добрался? – спрашивали его.
– Когда Оренбург освободили да Матюшка Бородин пошел с казаками в Яицкий городок, ну и меня к себе зачислил. Я поупорствовал, повздорил с ним. Меня заграбастали, к плетям приговорили, а я взял да и махнул до батюшки... Да я не один, девять яицких казаков привел с собой. Ох, и насмотрелись мы делов, вся Русь вскозырилась, кажись... – Голос у старого Оладушкина хриплый, усы большие, сивые, подбородок голый, глаза навыкате – задорные.
Его привели к Пугачеву. «Батюшка» обрадовался, начал обо всем с жадностью выспрашивать, казак отвечал срывающимся робким голосом, а когда Емельян Иваныч усадил его и велел поднести вина, Оладушкин осмелел, стал говорить красно и без запинки. Он рассказывал об Оренбурге и, понаслышке, об Яицком городке, что государыня Устинья Петровна арестована и неизвестно куда увезена, а вместе с ней схвачена вся ее родня, атаман Каргин, Денис Пьянов и другие-прочие.
Брови Пугачева изломились, рот перекосился, он ударил кулаком в коленку и, замотав головой, крикнул:
– Пропала государыня! Пропала Устинья Петровна! Замучают ее, бедную...
Он приказал подать крепкого вина, залпом выпил стопку, за ней – другую, наполнил третью... Закусывал селедками, рвал их руками, обсасывал пальцы, отирал о рушник. Выпил третью... Быстрые глаза его погасли, голос сник. Он больше уже не выкрикивал, а продолжал бормотать в темную с заметной сединой бороду:
– Пропала, пропала... Эх, пропала бедная головушка...
– И еще хочу сказать, – обсасывая хвост селедки, заговорил Оладушкин. – Хлопуше, названому полковнику вашего величества, принародно казнь была.
– О-о-о, – протянул Пугачев и вскинул на казака вновь ожившие глаза. – Ты видел, что ли?
– Самовидцем был... В крепости вешали-то, под барабаны. Мы с солдатней кругом помоста стояли, в походном строю, с хорунками да со значками. А народ-то на валу. Густо народу было... И как кончил чиновник бумагу оглашать да повели Хлопушу к петле, вот он и возгаркнул во весь народ, как в колокол брякнул: «А Казань-то, – орет, – батюшкой взята!.. Начальство перевешано!..» Тут ему рот хотели заткнуть, а он, безносый, страшительный, рванулся да свое: «И вам, кричит, то же будет от батюшки, сволочи!.. Он истинный царь!»
Пугачев опять замотал головой, схватился за поседевшие виски, сказал с горечью:
– Верный он, самый верный... Хлопуша-то... И не Хлопуша он, а Соколов – работный человек. Да, брат, да, казак... Невеселые ты мне вести привез, старик. Вести твои дрянь дрянью...
Пугачев снова потянулся к чарке. Под впечатлением предсмертных слов Хлопуши ему вспомнилась Казань, вспомнились встречи в ней с разными людьми, и он спросил:
– Слышь, казак! А про приемную дочку Симонова ничего не чутко? Она подружкой государыни Устиньи была.
– Как же, известно! – воскликнул казак и, оскалив зубы, чихнул в шапку. – Нареченная матерь ее, комендантша-то, одна возворотилась быдто. А барышня-то, Даша-то... Кто его знает, чего подеялось с ней. Одни болтают, быдто она из монастыря в бега ударилась, жених быдто у нее где-то... А другие толкуют, что от тоски да от печали с колокольни бросилась. То ли с колокольни, то ли в Волге, сердешная, утопилась...
Пугачев, закинув ногу на ногу, сидел с низко опущенной головой и посматривал на казака недружелюбно, исподлобья. Раздумывал: «Сказать Горбатову про Дашу или не надо говорить?» И решил: «Не надо!»
– Мне ведомо, что Яицкий городок захвачен неприятелем, – раздувая усы, сказал он. – Только в помыслах было у меня, что государыня Устинья на коне ускачет, она, поди, роду-то казацкого... А она, вишь, оплошала... Как же так не уберегли ее, не удозорили...
– Да вы, батюшка, ваше величество, не печалуйтесь: авось Господь праведный и спас Устинью-то Петровну, – взбодрившись, сказал казак, накручивая сивый ус и похотно косясь на свой пустой стакашек. – Как ехали мы, батюшка, Русью, всячинки с начинкой нагляделись. Повсеместно мужик остервенел, бар изничтожает.
– Так остервенел, говоришь, мужик-то? – И Пугачев прищурил правый глаз.
– Истинно остервенел, батюшка. От злости на господишек рукава жует, как говорится. А поверх того, народ со усердием повсеместно поджидает вас, а того боле – самосильно к вам, батюшка, валит. Насмотрелись мы и страшного и смешного. В одном селенье сказывали нам, приехал-де царицынский отряд, а мы с великого-то ума думали – это от батюшки, вышли встречать вместях с попом и всем миром, со старостой да с десятскими, повалились-де на колени, а сами кричим: «Мы все слуги верные царя-батюшки... Мосты все у нас вымощены, гати излажены, ждем не дождемся отца нашего, где он, царь-батюшка, далече ли?» А офицер на нас: «Ах вы, сволочи! Хватай их!» Ну мы-де все – кто в кусты, кто в лес, как зайцы от гончих собак, дай Бог ноги...
Пугачев улыбнулся, налил стакашек, сказал:
– Пей, старик! Чего поздно ко мне-то передался, ведь я полгода под Оренбургом был?
– Батюшка, царь-государь! Я, ведаешь, не один к тебе, нас десятеро, да двоих, правда, смерть сразила в сшибках со врагом. Вот я и говорю молодым ребятам-то, вроде как ты мне: ой, ребята, поздно... А они мне: может, тебе, старому, поздно, а нам в самый раз, ты-то вот куда прешься? А я им: перед народом-де оправдаться хочу, чтоб было с чем на Божий суд после смерти прийти, я-де вижу, как весь народ подъяремный страждет, а я, старый окомелок, на боку лежу, трубочку покуриваю да вот с такими голоусиками, как вы, в кости играю, в зернь.
– Ну, спасибо тебе, старик. А где ж дружки-то твои?
– Воюют, батюшка... Да, поди, внезадолге явятся. Ведь мы двадцать пять ружей да пудов с пять пороху в дороге-то поднакопили. А под Царицыном слых был, мол, на Дону казачья беднота пошумливает, к тебе ладит подаваться...
– Добро, добро, – повеселел Пугачев и, обласкав старика, приказал явиться ему к атаману Овчинникову.
После варварской казни Хлопуши в Оренбурге состоялась и жестокая расправа с архимандритом Александром в Казани.
Живейшее участие в этом принял председатель Секретной комиссии генерал-майор Потемкин. Превысив полномочия, он усугубил постановление синода и решил учинить расправу с архимандритом при многолюдстве.
Допросы с пристрастием вел сам Потемкин. На вопрос: зачем ты принимал у себя самозванца яко царя? – последовал ответ: страха ради. Тогда Потемкин своей рукой нанес Александру заушение. Тот удивился и сказал: «Если я враг ваш, то Христос и врагов своих заповедовал любить, зачем бьете меня?» Тогда Потемкин, развернувшись, ударил Александра с такой силой, что из носа архимандрита поструилась кровь. На многочисленных допросах пугачевцев Потемкин привык избивать людей, это питало его злобу и составляло удовольствие. Он помаленьку всех смирил, вот только Зарубин-Чика упорен, как скала. Этот отъявленный злодей с цыганской харей неустрашим и дерзок. Он позволил себе назвать Потемкина дохлой обсниманной собакой... Ну да он с этим заядлым башибузуком еще найдет способ перемолвиться.
В 12 часов дня Александр был приведен из Секретной комиссии прямо в алтарь соборной церкви. Он был в тяжелых оковах. Его трудно было узнать. Величественный и стройный, он сгорбился, темная пышная борода висела клочьями, белые холеные руки трепетали, измученные глаза глубоко запали, он весь состарился, стал жалок видом.