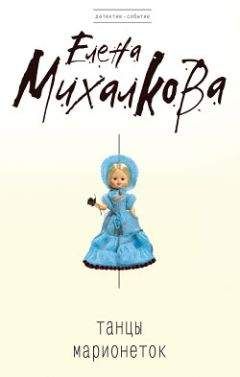Первым подвигом Алибо, вырвавшегося за ворота замка, было изничтожение стада деревенских коров в количестве десяти голов. Нет, доблестный барон вовсе не принял несчастных животных за вражеские разъезды, как можно было бы ожидать от пьяного человека, тем более что Алибо был совершенно трезв. Коров он принял за коров. Однако же, оскорбленный тем, что какая то крестьянская скотина преграждает путь благородному человеку, чьи предки вместе с Карлом Завоевателем отхватили этот край у южных кривляк, барон Алибо выхватил меч и геройски пробился сквозь ряды живой говядины.
Вторым подвигом, о котором Алибо так и не заподозрил, было то обстоятельство, что стремглав миновав собственную деревню, барон ухитрился никого не задавить. Возможно, заслуга в этом полностью принадлежала самим крестьянам, ибо завидев скачущего господина, они дружно бросились в разные стороны и еще долго, глядя вслед благородному рыцарю, творили святые знамения, отгоняя нечистого.
Третий подвиг доблестный Алибо намеревался свершить в захваченной деревне. Он горел нетерпением, жаждя осуществить свое древнее право, которое дарует благородному господину власть над поселянками. Как на грех, в жалкой деревушке не подвернулось ни одной свадьбы, но барона ничуть не смутили подобные мелочи. На правах рыцаря и победителя он поспешил осчастливить всех оказавшихся в пределах досягаемости крестьянок, разом достигнув двух целей — удовольствия, которого заслужил своим мужеством, и умножения крепостных, забота о чем является долгом каждого мудрого господина (впрочем, блага от второй цели оставались пока делом грядущего).
Дальнейшее потонуло в тумане.
Не стоит думать, будто барон свалился на землю, забывшись тяжелым сном. Ни чуть не бывало. Он еще бодро вышагивал (коня он все же где-то потерял), его голос был почти трезв, движения решительны, а голова ясна. Он просто не мог вспомнить ни одного своего действия, предшествующего настоящему мигу, но это его ничуть не заботило. Благородные рыцари не утруждают себя ненужными размышлениями!
Утро следующего дня Алибо встретил в придорожной харчевне на границе своих владений. Он был весел, бодр, но совершенно не мог ходить. Земляной пол харчевни был залит вином — пожелавший освежиться барон молодецки вышиб дно у винного бочонка и разлил большую часть драгоценной влаги — в одном углу большой комнаты всхлипывали две хозяйские дочки, а в другом постанывал сам содержатель харчевни, недостаточно проворно подавший Алибо жаркое, за что и поплатился. Не обращая ни малейшего внимания на стоны и плач, барон громко разглагольствовал, полагая, что ему с почтением внимают преданные вассалы. Его язык заплетался все больше и больше. Слова делались невнятными. Но, к несчастью, последняя фраза, сказанная перед тем, как доблестный Алибо рухнул в винную лужу и погрузился в богатырский сон, была абсолютно ясна и, если не считать многочисленных иканий, связна:
— Вот, говорят, Спаситель, Спаситель… А ежели бы не был сыном Господа, как бы кликали?.. То-то и оно… — захохотал Алибо, а затем выдал то самое словцо, каким привык называть простолюдинов. И уснул.
Избитый трактирщик выполз из своего угла, с холодной ненавистью взглянул на спящего барона, а затем погнал дочерей седлать осла. Через некоторое время, плотно привалив снаружи входную дверь и отдав необходимые распоряжения, он взобрался в деревянное седло и затрусил прочь, погоняя ослика гибкой веткой.
Нет, что ни говорите, но для барона Алибо из Королевского Пожарища было бы гораздо лучше свалиться до того, как он изрек кощунство.
* * *
Разные бывают пробуждения. И от разного эти пробуждения зависят. Кто-то просыпается среди вороха пергаментных свитков со сломанным гусиным пером в руке и перемазанными чернилами пальцами. Другой вскакивает на привале, отрывая голову от седла. Третий же просыпается под столом, среди признаков буйного кутежа. Последняя возможность, казалось бы, более всего подходила барону, однако же Алибо пробудился на соломе в темнице. Но далеко не сразу это понял.
Разбудил барона страшный холод и зверский голод. Он всегда славился отменным аппетитом, а после подвигов и вовсе способен был в одиночку умять здоровенного кабана. Отодрав голову от соломы и не успев продрать глаза, Алибо громогласно потребовал еды и вина. Как ни странно, но вокруг не раздалось испуганного шепота слуг и торопливого топота ног, и требуемая еда не появилась. Тогда барон заорал еще громче, пообещав перепороть нерадивых остолопов, посадить их в колодки и уморить там голодом, но так как и это заявление не нашло никакого отклика, Алибо протер кулаками глаза и огляделся вокруг. И в первый миг остолбенел.
Грязная солома, сырые стены камеры, крохотное оконце под самым сводом — вот что предстало взору благородного Алибо. Стала понятной и причина страшного холода, разбудившего барона. Подлые разбойники, захватившие его и поместившие в темницу (должно быть, в ожидании богатого выкупа), посмели раздеть его и бросить на солому нагого, словно нищего. Конечно, на счет наготы Алибо по обыкновению привирал, в заключении ему милостиво оставили рубаху и штаны, но вот все остальное — роскошный бархатный камзол, расшитый золотой нитью (после похождений барона забрызганный грязью и залитый вином), мягкие высокие башмаки из сфарадской кожи, с прикрепленными к ним золочеными шпорами (столь же грязные как и камзол), новомодный короткий плащ, опушенный лисьим мехом с вышитым гербом Алибо (мех был безнадежно испорчен, герб еще можно было рассмотреть), да еще тяжелые перстни, массивная золотая цепь и, конечно, подобающее рыцарю оружие — все, все исчезло за дверью, преграждающей выход из темницы. Барон словно бык покрутил головой и, осатанев он гнева, с диким кличем бросился к двери, намереваясь высадить ее богатырским плечом. И с грохотом рухнул на каменный пол, так и не добежав до заветного выхода.
Ему понадобилось не менее получаса, чтобы прийти в себя от жесткого падения, а потом еще столько же, чтобы понять, что за сила сбила его с ног. Если бы не ярость, он мог бы сразу заметить толстенную цепь, что тянулась от его левой щиколотки до массивного кольца в стене, цепь довольно длинную, однако же не настолько длинную, чтобы узник мог дотянуться до двери. Заметив это новое свидетельство своего плена, доблестный Алибо впал в такое исступление, что чуть было вовсе не лишился разума. Он вопил, что лично придушит наглых разбойников, грязных ублюдков, не достойных чистить хлев его последнего смерда, после чего поотрывает им руки-ноги и заставит все это съесть. Он грозил нарезать из их спин ремни и на оных ремнях повесить, сварить их в кипящем масле и залить в их глотки все то золото, что они с него поснимали, а в придачу и то, что надеются получить в качестве выкупа (последние два обещания лучше остальных подтверждали смятенное состояние баронского рассудка, ибо в обычном своем состоянии Алибо ни за что не согласился бы на подобное расточительство). Барон бесновался долго, но на его крики никто не отзывался, и лишь тогда, когда трубный голос Алибо сел от безумных воплей, когда он разбил в кровь кулаки, которыми в неистовстве колошматил по стене и каменным плитам пола, когда он совершенно обессилил от ярости, голода и жажды, дверь внезапно распахнулась и на пороге появился человек, которого барон меньше всего ожидал увидеть — суровый монах в белом одеянии, один из судей Святого Трибунала.
— Сын мой, — голос монаха был мягок, однако его глаза и осанка отвергали всякую надежду на незлобивость и добродушие нрава, — вы разбили кувшин с водой, который братия оставила вам, снисходя к вашему бедственному положению, и тем самым нанесли урон имуществу Святого Трибунала, и потому в назидание останетесь сегодня без воды.
Потрясенный появлением монаха, Алибо, не веря собственным ушам и глазам, бездумно проследил за жестом судьи и действительно заметил глиняные черепки в грязной лужице. В приступе бешенства он расколотил кувшин, даже не заметив этого.
— Вы должны были молиться, дабы строгим покаянием заслужить снисхождение за преступный грех богохульства, — продолжал монах, — однако в неуемной гордыне вы посмели нарушить своими криками молитвы иных грешников и тем самым встать на пути их спасения. За это вы будете наказаны и не получите сегодня причитающийся вам куска хлеба. А теперь покайтесь, ибо только искреннее покаяние может спасти вашу душу от мук Ада и ваше тело от очистительного пламени костра. Молитесь, и мы присоединим свои молитвы к вашим.
Барон открыл было рот, желая выразить возмущение своим заточением и столь бесцеремонным обращением с отпрыском славного рода, но что-то в глазах монаха, чего он не смог бы объяснить, но что напугало его даже больше несусветных угроз судьи Трибунала, совершенно неожиданно заставило его проглотить негодование. Он лишь сипло и даже робко пробормотал: