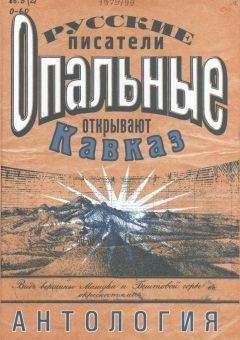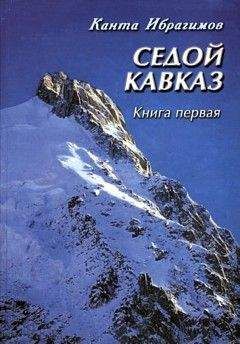– Самовар готов. А чего здесь стреляли?
– Сашка не виноват, – сказала Ольга, зажимая ладонью рану, и пальцы ее казались покрытыми ярко-вишневым лаком.
Жуков остолбенел от увиденного:
– Беги к Шнитникову, – попросил его Бестужев. – Расскажи ему все, что видел…
Врачи не могли спасти девушку. Ольга умирала в жестоких страданиях, но до самого последнего мгновения (уже в бреду) благородная подруга декабриста повторяла только одно:
– Бестужев не виноват… резвилась я, глупая. И не знала, что пистолет… Сашка любил меня, а я любила моего Сашку…
Казалось бы, все ясно: роковая случайность. Шнитников, выслушав следователей, посчитал дело законченным. Но не так думал командир батальона Васильев.
– Он и на помазанников божиих руку поднимал, – говорил Васильев, намекая на участие Бестужева в восстании декабристов. – Так что ему стоит шлепнуть из пистолета какую-то безродную девку?
Началось второе – придирчивое – расследование:
– Зачем вы держали заряженный пистолет наготове?
– А как же иначе! – отвечал Бестужев. – На днях в соседнем доме изрубили целое семейство, в доме напротив зарезали женщин, под моими окнами не раз находили убитых… Я не страшусь погибнуть в бою, но мне противна сама мысль, что я могу быть зарезан презренным вором. Потому и держал пистолет под подушкой!
Ольга перед кончиной столь часто повторяла о невиновности Бестужева, что это дошло и до Тифлиса, откуда Паскевич устроил нагоняй Васильеву, а дело велел «предать воле божией». Но Георгиевского креста декабрист, конечно, не получил.
– Теперь и не надо! – сказал он Шнитникову, а перед Таисией Максимовной не раз плакал: – Себя мне уже давно не жаль, но я век буду мучиться, что погибла юная жизнь…
Отныне уже никто не видел его смеющимся. Он часто говорил о смерти, которая уберет его с земли как солдата и оставит жить на земле как писателя. Александр Александрович начал сооружать над морем памятник. Сохранилась фотография могилы Оленьки, сделанная в начале нашего столетия. Надгробие представляло собой массивную колонну из дикого камня. Со стороны запада на обелиске была изображена роза без шипов, пронзаемая зигзагом молнии (намек на выстрел!), а под розою одно лишь слово: «Судьба». Трехгранную призму, на которой высечены слова эпитафии Дюма, свергла наземь чья-то злобная рука…
Через год он был произведен в чин прапорщика и пришел проститься с могилою Оленьки; из крепости уже трубил рожок…
О дева, дева,
Звучит труба!
Румянцем гнева
Горит судьба!
Уж сердце к бою
Замкнула сталь,
Передо мною —
Разлуки даль.
Но всюду-всюду,
Вблизи, вдали,
Не позабуду
Родной земли;
И вечно-вечно —
Клянусь, сулю! —
Моей сердечной
Не разлюблю…
Современник пишет, что почти все дербентцы провожали его «верст за 20 от города, до самой реки Самура, стреляя на пути из ружей, пуская ракеты, зажигая факелы; музыканты били в бубны и играли на своих инструментах, другие пели, плясали, и вообще вся толпа старалась всячески выразить свое расположение к любимцу своему Искандер-беку (как называли горцы Бестужева)».
1837 год застал его в Тифлисе – в этом году погиб на дуэли Александр Пушкин: полковник Мирза-Фатали Ахундов прочел декабристу свои стихи на смерть великого русского поэта. Бестужев перевел стихи Ахундова с азербайджанского на русский язык – они разошлись по всему Кавказу в списках.
Это был его венок на могилу убитого друга.
А весною на рейде Сухуми уже качались корабли Черноморской эскадры, шла погрузка десанта на палубы. Оставались считанные дни до отплытия.
Ветер наполнил паруса, унося эскадру к мысу Адлер.
На палубе сорокачетырехпушечного фрегата «Анна» солдаты распевали сочиненную Бестужевым песню:
Ей вы, гой-еси, кавказцы-молодцы,
Удальцы да государевы стрельцы!
Посмотрите, Адлер-мыс недалеко,
Нам его забрать и славно, и легко…
Ай, жги-жги, говори, будет славно и легко!
Вот и мыс Адлер… День был теплым.
Легкая волна напомнила Бестужеву его повести…
Сердце кольнуло больно о былом – невозвратном:
Я за морем синим, за синей далью
Сердце свое схоронил.
Я с тоской о былом ледовитой печалью
Грудь от людей заградил…
Прямо из бурунов прибоя десант шел в атаку, и белое прибойное кружево великолепно рифмовалось с именем самого Бестужева.
Здесь, на мысе Адлер, все и закончилось навеки!
Никто не видел ран Бестужева, не видел его убитым.
В трескотне выстрелов, размахивая шашкой, он ускакал в чащу чеченского леса, словно в легенду, и увел за собой свою легендарную жизнь писателя, декабриста, воина…
Кавказская литература наполнена версиями о его гибели.
Один сослуживец Бестужева в старости вспоминал, что «тело его не нашли меж убитыми, а на одном из черкесов найдены были его пистолеты и кольцо, и поэтому сначала долго думали, что он взят в плен». За точные сведения о судьбе Бестужева штаб Кавказского корпуса объявил награду! Явился за наградой чеченец с гор, который (в знак примирения с русскими) повесил шашку себе на грудь.
– Искандер-бека не ищите, – сказал он. – Конь занес его прямо в толпу черкесов, они взяли его, долго разговаривали о чем-то, а потом изрубили его своими шашками…
Говорили, будто главнокомандующий на Кавказе получил от Бестужева записку: «Я в плену. Меня зорко стерегут, я опутан какой-то сетью… Вере отцов не изменил и продолжаю любить родину. Я написал большое произведение, которое меня прославит. Привет братьям и всем, кто не забыл изгнанника Александра Бестужева».
Народная молва приукрасила эту легенду одной деталью.
– Передайте Бестужеву, – наказал якобы Паскевич, – чтобы сидел в горах, пока мы весь Кавказ не завоюем. Если же с гор спустится, то будет до смерти заключен в крепости…
Сухумские старожилы свято верили, что где-то высоко в аулах живет, словно горный орел, какой-то русский офицер, которого зовут Искандером; он высок, строен, умен и образован, пользуется средь горцев почетом, но они стерегут его денно и нощно, чтобы он не бежал в долину…
Писатель П. В. Быков со слов своего отца, лично знавшего Бестужева, писал: «Какой-то казак будто бы клялся и божился ему, что видел Александра Бестужева в богатой сакле, что у него жена-красавица, за которой он взял хорошее приданое, и что он по секрету (от горцев) выкупает наших пленных, а они этого даже не подозревают…»
Иногда пленных выкупали за поваренную соль, в которой горцы всегда остро нуждались. Старый кавказский воин Г. И. Филипсон писал в своих мемуарах: «В 1838 году я узнал, что у убыхов есть в плену какой-то офицер, но когда его выкупили за 200 пудов соли, оказалось, что это был прапорщик Вышеславцев, взятый горцами в пьяном виде и надоевший своим хозяевам до того, что они хотели его убить… Бестужев пропал без вести. Мир душе его! Он не дожил до серьезной критики своих сочинений, которые читались всегда с упоением».
Бестужев-Марлинский, как и его соратник Рылеев, умел сочетать романтику литературы с романтикой революции. В мемуарах декабристов он представлен «запальщиком» активности, «горячей головой» – в буре восстания он вывел Московский полк на Сенатскую площадь. После поражения восставших Бестужев решил не скрываться от суда – сам явился на гауптвахту Зимнего дворца и сдал шпагу. Благородный рыцарь, он не страшился расправы и в письме к Николаю I открыто признал, что хотел привлечь Измайловский полк, чтобы во главе его атаковать дворец…
Пропал без вести! За этими словами всегда есть надежда, и всегда в таких словах кроется непостижимая тайна. Когда я был на Кавказе в тех местах, мне все казалось, что сейчас с гор спустится стройный офицер в белом бешмете с газырями и, подав мне руку, печально спросит:
– Неужели моих повестей больше не читают? Жаль…