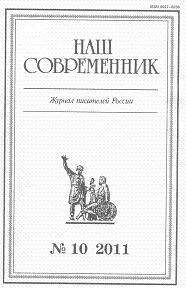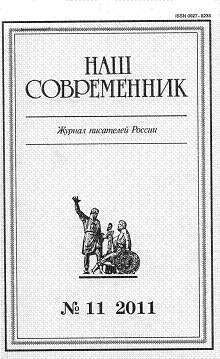…Сразу после выхода свет книги Троцкого «Литература и революция» вышла в свет «долгожданная» книжка Василия Князева «Ржаные апостолы». Сей автор уже не прикидывал и не размышлял — оставить Клюева «в прошлом» или нет. Он его попросту хоронил.
«Ты ставишь себе в заслугу, что идёшь в лес не с железом, что не несёшь ему ран и увечий? Прекрасно. Но ты — хуже поступаешь с лесом. Посмотри, что ты сделал с ним. Где его благовонный, смолистый, целящий людскую грудь аромат? Ты его отравил ладаном. Здесь задохнуться можно…»
«Если душевный склад человека всего полнее укладывается в такие жизеннно-идеологические рамки:
Так немного нужно человеку:
Корова да гряда луку,
Да слезинка, в светлую поруку,
Что придёт кончина злому веку —
Яснее ясного, что для такого человека клюевская церковь — идеал.
И многих она привлечёт к себе — втянет в себя (как трясина), многих погубит. Больно уж пахотная почва благоприятна для её восприятия: распахана, унавожена, уготовлена самой тысячелетней жизнью. И если б Клюев остановился только на этом, не пошёл дальше — через пожравший его город в мрачную „Долину единорога“ — его проповедь явилась бы наиболее чёрной опасностью для культуры, которую когда-либо знала Россия.
Ибо нет ничего чернее, как — оправдать и святить пингвинью крылатость и всю жизнь превратить в одно бесконечное сладостно-умиленное рыдание, воздыхание и кормление кутьёю малиновок!
„Бог“ — это душевный горб пахаря; горб — искривление позвоночника; что нужно сделать, чтобы избавиться от горба?
— Выпрямить позвоночник».
«И когда он, коммунизм, видит, что клюевские „благовестные звоны“ находят в тёмной, пахотной душе родственные звуки, заставляя струны этой души — звучать; и звучать — более гармонично: стройно, согласованно, напевно… он говорит:
— „Истинно-человеческая культура — в опасности!“
— И, как прямой вывод отсюда:
„Если кому и вешать мельничный жёрнов на шею, то — именно вот такому „учителю-пророку-апостолу“ — дрозду — псалмопевцу, а не тому „учителю-пророку-апостолу“, что собирает по деревням бабье полотно, яйца, масло и лично перещупывает кур, блюдя свои „апостольские“ интересы…“
Князев прекрасно ведает, что творит. Он знает цену клюевской поэзии. Более того — местами он от неё в подлинном восхищении. „Что можно сказать о поэтическом языке „Мирских дум“? Только одно: чистота, образность и изобразительная сила его — былинны. И это совсем неправда, что он уснащён „провинциализмами“, что читать Клюева можно только с Далевским толковым словарём. Не „провинциализмы“ делают стих Клюева непонятным, а та „оспа буквенная“, что изъела наши глаза и уши при благосклонном участии очагов заразы, всесильных перед войною, бульварно-буржуазных газет. Мы забыли настоящий, народный язык: дутый стеклярус отучил нас от жемчуга.
Да что жемчуг — мы отвыкли даже и от гранёного хрусталя“.
В эти строки клюевского ненавистника стоило бы вчитаться не только многим пристрастным современникам, но и иным нынешним „литературоведам“, замуровывающим поэта в различные резервации под разными названиями: „Новокрестьянская поэзия“ (эту „песню“ первым „спел“ Василий Львов-Рогачевский, от которого Клюеву „дышать было нечем“) или „Серебряный век“… И всё с одинаковым припевом: „провинциализмы“, „далевский толковый словарь“…
Но чем объективно драгоценнее Клюев как поэт, тем страшнее он для Князева, а в глазах Князева для всей революционной России.
„Клюев не рядовой пахарь и не православный пахарь. Клюев — идеолог-сектант. Мистическую пашню свою он пашет глубоко забирающим „электроплугом“ идейно-духовно-обоснованной потребности в божьем бытии… Клюев — поэт-пахарь-идеолог. А то, что Клюев не православный, а „раскольник“, нисколько не меняет дела. Наоборот, это — усугубляет наш интерес к нему, ибо на „раскол“ (сектантство) мы смотрим как на высшее — общедоступную, в настоящее время, при настоящих условиях — степень умственнодуховного развития нашей деревни…“
А погиб Клюев как поэт, по мысли Князева, когда „пошёл в город“, когда в нём „проснулся революционер“.
„Клюев — умер, потому что он не может существовать без „хвойной купели“, а хвойная купель, доверху наполненная парной и маркой кровью — омут, а не купель…“
Но даже после „смерти“ Клюева его книги, наравне с книгами других авторов (подбор у Князева замечательный!) могут послужить, оказывается, своеобразным „пособием“…
„Товарищ, читай книги, написанные до 25-го октября 17-го года — необходимо знать, как нельзя жить и мыслить. Ходи в венерические больницы, дома умалишённых, изучай Достоевских, Толстых, Андреевых, Арцыбашевых, Клюевых… — ибо необходимо перед великой борьбою за обновление человеческой расы (! — С. К.) приобрести потребное для того оружие.
И если перед тобою будут рисовать Русь в виде птицы-тройки, мчащейся неведомо куда и заставляющей все племена и народы почтительно сторониться — вспомни о стомиллионных Индии и Китае, которых признание широкой биологической правды, в ущерб узкой, человеческой, наивысшей для человека, „домчало“ к рабству.
Что такое Китай с его великим Конфуцием? — человеческий навоз! Что такое Индия с её Буддою, йогами и прочими мыслителями и мудрецами? — человеческий навоз!“
Князев распаляется с каждой последующей главой своей книги. Он машет направо и налево шашкой красного кавалериста, отдавая при этом должное и силе противника.
„…И в октябрьских своих взлётах Клюев в юркости, маскарадно-придворной приспособляемости, в мимикрии — не повинен ни душою, ни телом! Он создал свой октябрь, собственный свой, клюевский октябрь (ничего общего с настоящим не имеющий), и начал воскурять фимиамы, бить в било, гимнотворствовать и совершать обрядовые „метания“ — перед своим (а не ленинским) октябрём…
…Самое дорогое для Клюева — святое святых его души — октябрьской, святой революцией — поругано, разрушено, стирается с лица земли!
И это нужно было ожидать, это необходимо было предвидеть, такова природа коммунистической революции…“
„Поругано“, „разрушено“, „стирается“, списано в архив, оставлено, в лучшем случае, как пособие того, „как нельзя жить и мыслить“… Так в чём же опасность?
А вот в чём:
„Пока „богом“ пользуются, как пастухом дождевых туч, как скотским ветеринаром, людским знахарем, сельским агрономом и прочее, в той же плоскости — это ничего.
Но когда „бога“ пытаются провести в Совнарком, снабдив его соответствующими полномочиями и мандатами от 110-ти миллионов его „рабов и овец“, это уже — катастрофа.
Надо — бить в набат, исследовать и разоблачать…“
Вот она — главная цель сего „исследования“! И продиктована — серьёзнейшей причиной:
„Ибо никогда забывать не нужно: в Рософесоре (по последней переписи) — (данные 1921 года — примечание Василия Князева) — городского населения — 21 миллион, сельского же населения („рабов и овец“) — 110.000.000 — в пять раз больше! да и среди двадцати миллионов городского населения от „божьей краснухи, кори и скарлатины“ избавилась — едва ли только половина; если только не треть…“
И потому:
„Клюевщина“ — страшная сила. „Хакки-мистицизм“ можно легко победить на протяжении двух, трёх поколений; „клюевщину“ (идейно-обоснованную и идейно-порождённую „тягу к богу“, нутряную, корневую потребность в его бытии) придётся выкорчёвывать многие десятки лет.
Выкорчёвывать! в то время, как первая „твердыня“ — сама собою рассыплется от меча знания — в прах и пыль».
А вот здесь, видимо, неожиданно для самого себя, Князев сказал сущую правду.
С одной поправкой — выкорчевать так и не удалось.
После очередной волны закрытия и разрушения церквей в конце 1920 — начале 1930-х гг., после лютых репрессий священников, монахов и монахинь, развязанных «ленинской гвардией» после того, как, казалось, православие в России уничтожено и никогда не возродится — во время всесоюзной переписи в ночь с 5 на 6 января 1937 года обнаружилось, что около 60 % опрошенных признали себя верующими (из них три четверти — православными). Это не считая тех, кто не обнаружил своего вероисповедания из опаски… Скорее всего, поэтому перепись та была официально признана «дефектной», а вовсе не из-за «снижения количества населения в результате репрессий» в период коллективизации.
Во время войны открывшиеся церкви были переполнены народом (и отнюдь не только людьми старшего поколения). Солдаты и офицеры, получая партийные билеты, перед боем вспоминали о Боге — и тому масса свидетельств. Дикая судорога закрытия церквей в начале 1960-х годов под аплодисменты так называемых «шестидесятников» также реально ни к чему не привела.