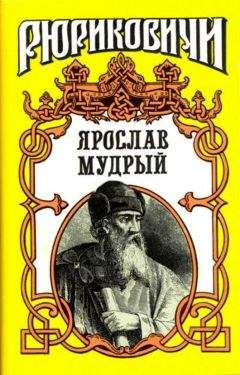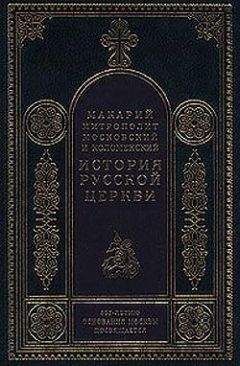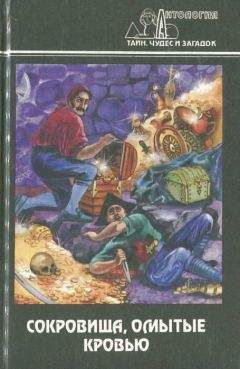В Киев Владимир возвратился с царевной Анной, священнослужителями и крестил Русь. Сколько же тому лет минуло?
Князь пошевелил губами. Чуть боле двадцати, а поди ж ты, мгновением пролетели. Все прошлое у него перед очами: как по его повелению опрокидывали идолов, рубили их боевыми секирами, жгли, и сухое дерево горело с треском. Когда поленья трещали, лопались, люд выл, причитая по своим языческим богам…
А главного бога Перуна привязали к хвосту коня, волочили с горы по Боричеву свозу, а воины из боярской дружины палками колотили Перуна. Потом бросили в Днепр, и он поплыл вниз по течению…
Владимир наказал людям: «Коли пристанет где к берегу, отпихивайте его».
Бежал народ вслед за идолом, кричали: «Выдыбай, боже!»
Долго еще в лесных дебрях огрызался от несущих крещение духовников серебряноглавый Перун. И по глухомани народ стоял за своего языческого бога. Ждал, он придет и отомстит за свое поругание.
Вздохнул Владимир, приоткрыл глаза, покосился на Бориса. Тот на Днепр смотрел, взгляда отцовского не заметил.
В мать удались, подумал князь, что Борис, что Глеб. Лица тонкие, смуглые, очи серые… Растут сыновья Анны. Борису вон на шестнадцатое лето повернуло, а Глебу на тринадцатое…
Родила ему Анна сыновей, радовалась, да вот два лета тому назад умерла, а Владимир поручил сыновей иерею Анастасу. Нынче сомнение одолевает, замечает, у Бориса и Глеба не к военному делу тяготение, а к книжной премудрости. Настает пора напомнить им об уделе князя. Им дружины водить, беречь землю. Прошлым летом Борис с гриднями уже показал себя, когда отразил печенегов. В зиму степняки не опасны, а случится по весне либо в летнюю пору печенежский набег, снова пошлю на них Бориса, а с ним и Глеба.
Мысль на другого сына, Мстислава, перекинулась, какого в Тмутаракань послал. Крепко держит он в своих руках княжение тмутараканское, храброго сына родила ему Рогнеда. Да и Ярослав в Новгороде закрепился, только вот к варягам зачастил, к чему бы? Не замыслил ли чего конунг свевов Олаф? Уж он-то, князь Владимир, варягов знает, не с ними ли на Ярополка ходил? Варяги по его указанию и Ярополка убили. Терзался ли он, Владимир, случившемся? Нет! Разве Ярополк пощадил бы его?
Встряхнул князь головой, прогоняя непрошеные мысли. Вспомнил дядьку своего, наставника, брата матери Малуши. Сколько знает Владимир, Добрыня Никитич всегда при нем был, уму-разуму наставлял, военным действиям обучал. Поди, кто и любит его, Владимира, так это дядька… Матери Малуше и приласкать сына не довелось, бабка, княгиня Ольга, отобрала его у рабыни, а саму Малушу в Берестово отправили…
Не испытал Владимир материнской ласки, как и Борис с Глебом… И сызнова Анна на ум явилась, красавица греческая, Порфирогенита, сестра архонтов Василия и Константина. Не желала она идти в жены к вчерашнему язычнику в землю Великую Скифь. Однако сломилась, да только прибрал ее Бог…
Разве мог забыть Владимир, как на огромном дромоне привезли Анну в Херсонес и гридни киевского князя, все в красных корзно, пришли на пристань. Встала боярская дружина коридором, на щиты оперлась, преклонила колени перед будущей великой княгиней. Радостными криками огласился берег. Ликовали русичи, ликовали греки. Когда увидел Владимир неземную красоту Порфирогениты, он, повидавший не одну сотню наложниц, даже оробел. Но это на мгновение. Вскоре Владимир уже вел Анну к своему княжескому шатру. Никогда прежде не случалось такого, в эту первую ночь он, великий князь Киевской Руси, снял легкие сандалии с ножек гречанки. Она покорила его, и словно не было отворившего ворота Херсонеса и дани, какую затребовал Владимир с гордых херсонесцев…
Потом они плыли по Днепру в Киев, переправлялись через бурные опасные пороги, и Анна испуганно жалась к нему… Анна, Анна, была ли ты и почему покинула его?
А в Киеве, едва княжеская ладья бортом коснулась причала и ладейщики проложили зыбкие сходни, Владимир легко, на вытянутых руках перенес Порфирогениту на берег и под взглядами замершей толпы киевлян понес ее в Гору, в княжеские палаты.
Ту любовь к Анне Владимир переложил на сыновей, Бориса и Глеба. Даже в тонких чертах их лиц ему проглядывалась Анна.
Кони замедлили бег, ездовые взяли их за поводья, перевели через овраг. Прошлой зимой в этом месте опрокинулись сани вышгородского посадника, и тот поломал руку. Владимир оглянулся. Осаживая коней, дружинники перебрались через овраг, поспешая за санями, перевели лошадей на рысь. Впереди деревья подступили к самой воде, теперь княжий малый поезд ехал лесом. Высокие сосны с янтарными стволами и вечнозелеными шапками, казалось, доставали небо. Владимир любил это гордое осанистое дерево. Нравились ему и березы, они напоминали ему прекрасных женщин в белых сорочках…
В лесу тихо, и снег еще не засыпал многолетний хвойный настил. Оттого здесь пахло грибами.
Владимир набросил на ноги войлочную полость, в последние годы что-то стал мерзнуть, видно, подобралась к нему старость. Да и немудрено, скоро полсотни за спиной. В прошлые лета даже в самые лютые морозы не надевал катанки. Утро начинал, выбегая босым на снег, в одних портках, растирался докрасна, и никакие хвори не брали.
Господи, подумал великий князь, как скоротечно время, неуловимо оно, и всяк сущему не остановить его. Где начало бытия?
В отдалении в чащобе заревел тур. Князь встрепенулся, приложил ладонь к уху:
— Пора охоты наступает! — Повернулся к Борису: — Дивлюсь, не влечет тебя она.
— Да уж нет желания убивать. Живое хвалит Господа.
— Крепко же у тя, сыне, учение Божие. — Суровая усмешка тронула уста Владимира. — Этак ты и печенежина пожалеешь.
— Чего нет, того нет. Печенежин разбой несет. Тут не ты его, так он тебя.
— Истину сказываешь, там, где орда пройдет, смерть и разор. В последние годы будто поумерили мы пыл степнякам, реже их набеги. А все потому, как рубежи возвели; на Суле крепостица наша, на Трубеже заслоны, а паче Переяславль-город, и о стены его печенеги лбы разбивают. Чернигову защиту по Ос тру и Десне поставили, на Стручне-реке чьи крепостицы стоят? А валы, они ль не преграда конным степнякам и не со стен ли Белгорода калеными стрелами в печенегов метят? Мыслю, немало стараний к обороне земли Киевской и Мстислав приложил. Не ошибся, в Тмутаракань его отправляя. Город-то и княжество Тмутараканское ровно щит у Руси Киевской.
Говорил отец, а Борису припомнилось, как провожали Мстислава. Большим поездом отъезжал брат: гридни, обоз. Обнял Мстислав меньшего брата, промолвил:
— Настанет час, и ты, Борис, получишь свой удел, покинешь отцовский дом, в том суть жизни…
К словам отца прислушался, а Владимир говорил:
— …Сердца у вас с Глебом добрые, не по временам нынешним. А иногда мыслю, может, тем лед вражды между братьями растопите?.. Ведь чем мать ваша брала? Кротостью своей всех покоряла.
Саночки выскочили из леса, и снова дорога повела берегом Днепра.
— Скоро лед закует, — заметил князь, — тогда до тепла станет великий торговый путь. Днепр, как добрый батюшка для всех русичей, от племен словен до полян: тут тебе и мастерство, и хлеб, и торговля — все богатства происходят. Ведь отчего нас греки Великой Скифью именовали, только ли за славу воинскую? Нет, за богатства наши! Я это уразумел, когда князем новгородским сидел, чьи только корабли к нам не причаливали! И сказал я себе, если такое в Новгороде, так что же в Киеве? Да и пустился добывать стол киевский…
Снег прекратился, но подул ветер от моря Варяжского, холодный, с морозом.
— К утру заберет, не слишком ли рано, только Покров, — заметил Владимир и прикрикнул ездовым: — Поторапливай!
Защелкали кнуты, и кони взяли в крупную рысь. Князь смежил веки, его начало клонить в сон. Борис всмотрелся в даль, но до Киева еще было не менее часа езды, и молодой князь предался размышлениям.
Отчего его братья так не дружны? Сколько он помнит, по разным городам сидят сыновья Владимира, друг от друга не зависимы князья, но нет мира меж ними, а пуще всего неприязнь между Святополком и Ярославом. Они и к Борису отчего-то недобры, в этом он убеждается в редкие наезды братьев в Киев.
Борис не таил зла на них, он говорил «не ведают, что творят». По-настоящему Борис сердцем прикипел к Глебу. Еще о Мстиславе вспоминал с теплотой. Пока тот жил в Киеве, ничего худого не сделал он ни Борису, ни Глебу и никому из других братьев не позволял обижать их.
Борис подумал, какой же удел выделит ему отец? Однако куда бы ни послал его великий князь, он будет доволен. Была бы тишина и покой на земле. Не родись он князем, стал бы священником, утешал бы людей в горе, напутствовал словом Божьим.
Но об этом Борис отцу не говорил, знал, тем вызовет недовольство великого князя. А великий князь во гневе страшен, Борису хорошо известно. Разве не был его отец язычником? Христианство повернуло злое сердце князя Владимира к добру, думал Борис и мысленно благодарил за то свою мать. От многих слышал он о кротости Порфирогениты, но чаще всех рассказывал им, Борису и Глебу, о матери иерей Анастас. Здесь, в Киеве, он был ее духовным наставником.