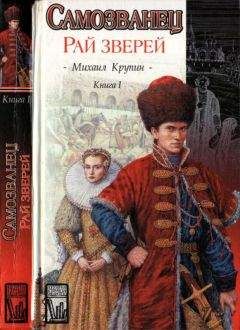— Мой господин хранит в казне волшебные коренья, паки зело помогают ему извести государя Бориса Федоровича.
— Пес! Пес! — вскричали Романовы. Александр Никитич хотел выхватить саблю, но та оказалась отобрана.
— Отмыкай казну, — указал хладнокровно Бартеневу стольник.
— Ступайте, ищите! — поощрил усмирившийся Федор. — Водяного найдете. (Он сегодняшним утром сам отмыкал ларь с серебром, дарил подопечных, чтобы крепко держались в опале, и теперь был уверен: ларец не таит чудес.)
Но Бартенев, перекрестясь, снял с цепей паникадило о двенадцать свечей и, выйдя из образной, не повел стрельцов в иные крыла дома, где местилось мирское богатство князей, а сунулся сразу в какой-то чулан. Там он поставил светильник на кадь с ароматической смолой и быстро нашарил поблизости малый заржавленный сундучок.
— Вота, их вся тут казна сокровенная, — пояснил Бартенев стрельцам.
— Лжет, поганый! — взревел Федор Никитич. — Братцы, служивые, в этот чулан никогда алтына не западало.
— Смирнее, боярин! — сказали внимательные стрельцы, взяв на случай Романовых под руки.
Бартенев откинул трапецию крышки, стольник двинул паникадило ближе к ларцу, и все увидели в нем — поверх денежной насыпи — тощие неведомые корешки и котовые когти.
Стрельцы охнули и так стиснули мышцы Романовых, что у тех и совсем подкосились некрепкие ноги.
— Все видали? — спрашивал царев стольник, подделывая внезапное негодование. — Приберите, ребята, в Аптечный приказ колдовские грибы и бояр-чародеев, взять туда же, как велено в грамоте, жен, детей да придворную челядь их, коли еще не порублена, первым делом дворецкого Петьку Бестужева, стряпчего Фролку Филипова да конюшего Юшку Отрепьева!
— Юшка-то еще на Троицын день к князю Черкасскому перешел, — подсказал Бартенев.
— Ну так от нас не уйдет — на того пса опального тоже петля мылена.
Братьев Никитичей повели тесной лесенкой вниз. Но тут самый юный и голубоглазый стрелец, видно только пришедший служить из какой-то оброчной деревни, вдруг с запозданием осилил смысл действия.
— Злодеи-искусники! — вскричал он, стремясь дотянуться клинком до Романовых. — Вы хотели достать государство ведовством и кореньем!
Но парня служивые швырнули назад, он опять оказался в чулане и начал в тоске сокрушать все недоброе, залепляя саблю воском и миром. Так с боем дошел он до противной стены и вдруг пошатнулся и замер. У стены поднялась чья-то тень с тонкой розгой в руках.
— Свят, свят, не скочи на шею, — забормотал было ратник, но, опомнившись, взвизгнул: — Братцы, на помощь, меня кикимора ловит!
Стрельцы, подходя, хохотали, кикимора щелкнула страшно зубами, и ратник свалился без чувств. Юшка подхватил его душистый клинок и снова выскочил в сени. Здесь ему показалось, что дом весь кишит стрельцами. Но он помнил, что на переходе лесенки есть маленькое, заволоченное бычьим пузырем окошко, и помчался туда. Проколов пузырь саблей, он рывком вытолкнулся наружу и заскользил вниз по точеному столбику, подпирающему фасад. В душе Юшка благословил того, кто делает такие столбы, с ободками и резными цветами: было теперь за что зацепиться ногой.
— А вот он, конюший-то Отрепьев, — указал со двора на слезающего Бартенев, сегодня он точно выслуживал чин.
В это самое время из боярской конюшни выводили лихих жеребцов, отписанных со всем иным достоянием Романовых в царев обиход. Юшка, спрыгнув на землю, пронзительно засвистал. Золотой аргамак[4] фыркнул, вспрянул ушами и, сбив с ног стрельца-коновода, первым примчался к любимцу. Юшка запрыгнул на сухую атласную спину, впился пальцами в гриву, гикнул, понесся, прикипевшей к руке розгой отмахиваясь от подбегающих с яростной бранью стрельцов. В один мах перелетел аргамак поваленные ворота и ринулся по вольной улице вдаль.
Ратники начали было пускать за ним стрелы, но стольник то дело им воспретил из опаски поранить мещан. Вслед беглецу верхами тоже не поскакали — разве беса догонишь?
— Запалить, что ли, дом-то? — спросили у стольника.
— Не след, — отвечал он, подумав, — вон видите кирку костела, а сбочь ее избу посольства польского? Там и канцлер литовский Сапега. Царь сказал: им не надобно видеть пожар.
Но государев слуга прогадал. Тем же вечером выехал с посольского двора в походном кунтуше[5] гонец с почтой королю Сигизмунду.
«Нам удалось узнать, — означалось в той почте, — что нынешний пресветлый помазанник и великий князь насильно вторгся в царство и отнял его от Никитичей-Романовичей, кровных родственников умершего Феодора, сына Грозного Иоанна. Названные Никитичи-Романовичи усилились, что было и справедливо, и при них стало достаточно людей, но тою ночью пресветлый царь и великий князь на них напал.
Его сиятельство канцлер сам слышал, а мы из нашего двора видели, как несколько сот стрельцов шли ночью из называемого Кремлем замка с горящими факелами, после мы различали пищалью и лучью пальбу. И так мы стояли на нашем посольском крыльце, смотрели и, может быть, с непривычки к таким в мирных селениях ужасам, даже почти не боялись.
Дом, в коем жили Никитичи-Романовичи, был подожжен с четырех сторон, почти всех пресветлый царь и великий князь убил, но, по другим данным, не меньше и арестовал, сведя с собою.
Зле, бардзо зле начался новый век в землях дикой Московии! Не зря Гораций воскликнул: о рус!
С тем кланяются вашей высочайшей милости, королю польскому и литовскому, тут ежечасно рискующие для славного вельможного сейма и высочайшего рыцарства, послы Заславский, Збарский и Пелгжимовский».
За Яузой в роще Юшка пустил аргамака на волю. Седок на лихом жеребце без седла и узды был для всех подозрителен. По задворкам, обильно поросшим берсенем и малиной, конюший Романовых выбрался к стенам Чудова монастыря. Здесь давно отдыхал и спасался от мира Юшкин дед, Елизарий Замятня. Когда-то Замятня был крупной фигурой, охранял благочиние Белого города. Сам Годунов поставил его объезжим головою от речки Неглинной до Алексеевской башни.
Теперь же Замятня удалился по старости лет на покой — в монастырь. Но и здесь воскресал в нем порою дух разгульной, овеянной шустрыми стрелами юности. Хоть его келья и смиренное облачение инока ничем не выделялись средь прочих, брат Елизарий, издавна ведший дружбу с архимандритом, поставлен был независимо и высоко. Когда он приметно одуревал от беспрестанных молитв и трудов послушаний, Замятня выстраивал братию в монастырском саду, и начинались боевые учения. Монахи охотно разминались, вырезывали кленовые стрелы и луки, поочередно охаживали шестопером[6] растрепанный кожаный щит. Относящихся к ратному делу с прохладцей или почитающих его искушением дьявола Замятня легко убеждал, развивая живые картины осады татарскими ордами Чудова монастыря. Не от дедушки ли Елизария и перешла к Юшке открытость наитию — ветру выдумки в житейских глухих облаках?
Выслушав влетевшего в келью внука, старик всполошился.
— Эх, паря!
— Что делать, дедка?
— Что делать — заголясь бегать!
— Бежать?
— И бежать тебе, внучек, на Монзу, в гнездо отчее Железный борок. Там друзья, там укроют. Сидеть смирно, покуда здесь бури натешатся. А уж я уловлю ясный миг, государя умолю за тебя.
Юшка согласно кивал, вытирал пот со лба.
— Дедушка, сегодня же и пущусь, упрежу только князя Бориса Черкасского, что Никитичи взяты.
Замятня алтынами сделал глаза.
— Цыц! И не думай соваться. Тебя самого чуть сегодня секирой по шее не упредили. Князь что нам, сват, брат? Авось без тебя его гусельки отыграют.
— Благословенно буде имя Господне, — раздалось густо за дверью.
— Аминь, — выхрипнул отзыв дед, узнав голос игумена. Спрятать внука в келье аскета все одно негде.
Архимандрит, войдя, бросил на Юшку смущенный да пристрастный взор, заговорил с дедом.
— Брат Елизарий, — изрек он, — прости, что тревожу в час духовной беседы с… сим отроком юным. Только знаешь… — игумен замялся, не зная, как и продолжать. — Там, у ворот монастырских… стрельцы, государевы люди, с ними окольничий, стольник Татищев. Вопрошают, не здесь ли твой… Здесь не скрылся ли Юрий Богданов Отрепьев, служка татей Романовых и Черкасских?
— Пафнотий, не выдавай, — взмолился Замятня.
— Татищев-от, аки волк рыкающий, с обыском рвался в обитель, я еле сдержал, уберечь дабы Чудов от сраму и разорения. Сказал: сам, мол, схожу посмотрю и спрошу у Замятии. Мне он верит, стоит там и ждет, — вздыхал тяжко игумен, — как солгать? Не смогу. Полвека не брал такового греха на душу, не взыщи, Елизар.
Замятня чем далее слушал, тем больше мрачнел. Но вдруг истинное вдохновение озарило его напряженно-морщинное, смуглое от старческого, как будто свечного, загара лицо.