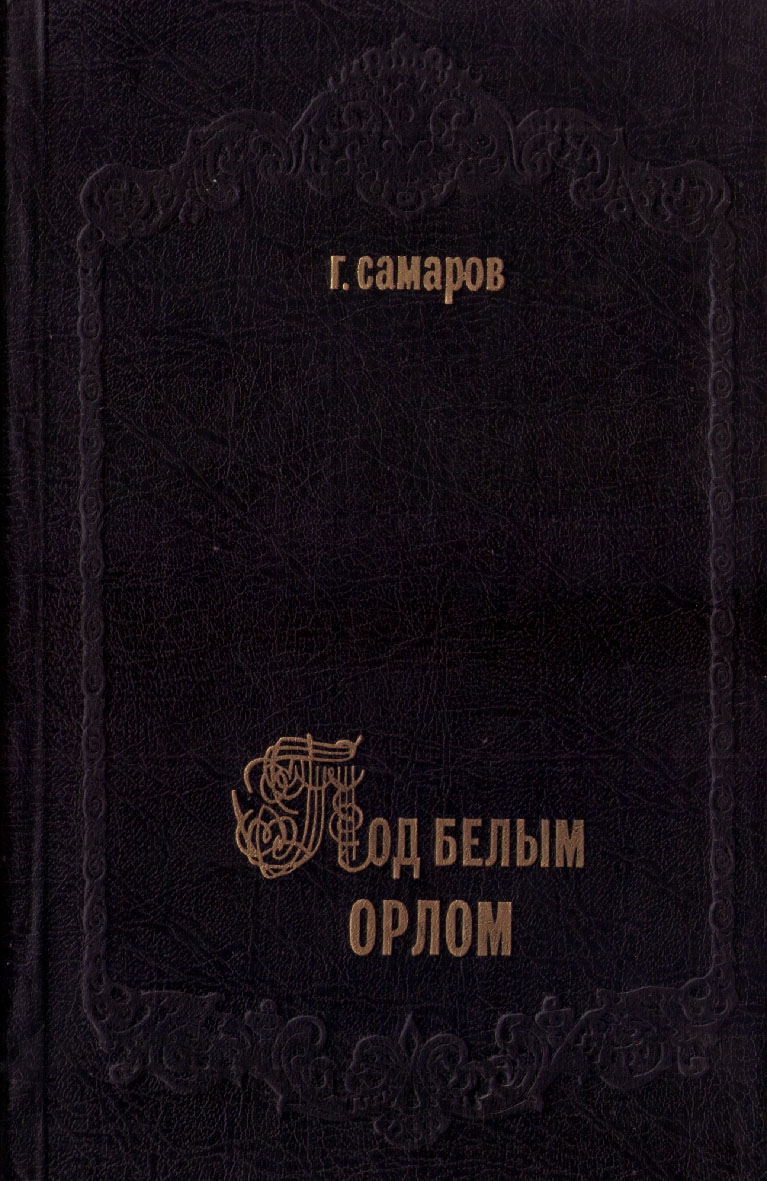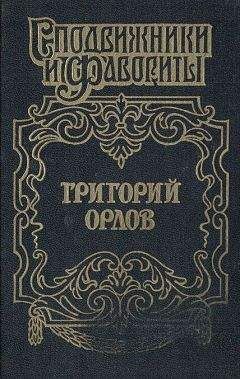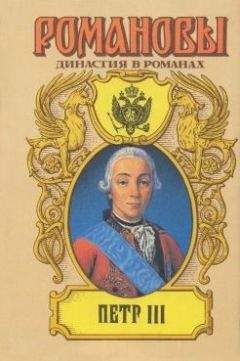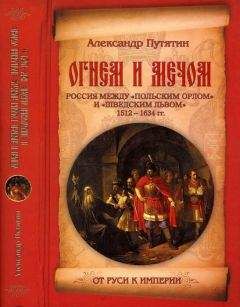королю, распустил его длинные волосы и заплёл их в косу, причём тщательно и с большою ловкостью следил за каждым движением головы Фридриха, пока тот прочитывал одно за другим полученные письма, от времени до времени бормоча вполголоса про себя отрывистые замечания и порою делая краткие пометки на полях:
— Коса готова, — отрывисто и по-военному доложил камер-лакей.
Король докончил чтение остальных писем, после чего встал; камер-лакей поднёс ему серебряный таз с водою и Фридрих вымыл лицо и руки, причём в знак отменнохорошего расположения духа брызнул в лицо лакея несколько капель воды концами своих пальцев.
— Ты исполнил свою обязанность, Мюллер, не обратив внимания на моё ворчание и принудив-таки меня встать. Во всём, что я сделаю сегодня поутру полезного и доброго, ты будешь участником. Ступай туда к камину, там положено кое-что для тебя; я знаю, тебе это может понадобиться; ведь ты был таким дураком, что навязал себе на шею жену и детей.
На камине лежал свёрток червонцев.
Неожиданно получив такой щедрый подарок, слуга вздрогнул от радостного волнения, но высказал лишь в немногих словах свою благодарность; он знал, что король не любил пространных речей и прерывал их всегда саркастическим тоном и порою весьма немилостиво; лишь в его голосе звучала радость по поводу королевского подарка, и глаза Фридриха заблестели ярче, когда он прочёл в честных чертах верного слуги искреннюю признательность, которой он так часто не находил у людей.
— Хорош тот день, — тихо промолвил про себя король, — который начинается радостью, доставленной доброму человеку; как прекрасно было бы осчастливить всех! Но где же оно, пресловутое всемогущество королей?
Лакей между тем напудрил накладку из чёрных волос и подал королю, который надел её себе на голову, после чего нахлобучил на самый лоб шляпу с белым генеральским пером, предварительно слегка вытертую лакеем шёлковым платком.
По знаку Фридриха, камер-гусар, неподвижно стоявший теперь у дверей комнаты, принёс рапорт из Берлина об иностранных делах, переданный ему адъютантом лейб-гвардии в прихожей.
Король пробежал глазами полученные документы и положил их к прочим бумагам, которые тотчас были унесены в смежную королевскую канцелярию. Немного спустя он подошёл к камину и потребовал у камердинера форму.
Фридрих надел жёлтый жилет, поношенный синий мундир и тотчас отправился в свой кабинет; там стоял уже для него кофе; он быстро выпил несколько чашек этого напитка с белым перцем.
Камер-лакей поставил пред каждой из собак по тарелке молока с только что испечённым белым хлебом. Любимица короля Арсиноя вспрыгнула на стол, и государь кормил её из своих рук, нежно поглаживая от времени до времени голову изящного животного.
— Как прекрасно бывало прежде! — промолвил он, подходя к порогу террасы и любуясь природой, уже сиявшей в полном блеске дня. — Именно в этот час брал я в былое время свою флейту и окунался душою в волны гармонии, чтобы укрепить себя для всех диссонансов, какие приносит день. Но и это миновало; мой беззубый рот не может больше будить звуки своим дыханием; одна радость за другою покидает нас на одиноком, покатом пути старости! Но, конечно, так лучше: мы трусливо цеплялись бы за жизнь, если бы нам было суждено покидать её во всей красе расцвета; теперь же мы легко сбрасываем её с себя, как бремя, которое становится тяжелее с каждым днём.
Король позвонил в золотой колокольчик.
— Пусть войдёт государственный советник Штельтер! — приказал он, и позванный тотчас явился.
Этот высокий, сухопарый мужчина с изящным, умным, но болезненно-утомлённым лицом был одет, согласно строго предписанному правилу для государственных советников, в придворный костюм из чёрного шёлка; на боку у него виднелась шпага; в руке он держал шляпу, а под мышкой портфель.
Вошедший отвесил королю церемониальный и несколько натянутый поклон, потом подошёл к маленькой конторке для писанья стоя, развернул на ней свои бумаги и положил шляпу возле себя на пол.
— Ну, как поживаешь, Штельтер? — приветливо осведомился государь. — Как твоё здоровье? Неужели ты всё ещё собираешься бросить службу и внутренне зол на меня за то, что я не согласен дать тебе отставку?
— Как могло бы, — возразил несколько сухим, утомлённым голосом Штельтер, — найти себе место в моей груди иное чувство, кроме любви и благодарности к моему всемилостивейшему королю? Вашему величеству принадлежит моя жизнь, но, правда, моё здоровье страшно плохо; тело отказывается повиноваться; когда же я подумаю о жене, то иногда мне хочется сложить с себя почётное, но также и весьма тяжёлое бремя государственной службы, чтобы сохранить себя для своих близких.
— Оставь в стороне свою жену! — саркастическим тоном сказал король, — женщинам не годится знать все; это я уже говорил тебе раньше, а служба поддерживает телесную бодрость, если только относиться к ней с охотой и любовью, что я замечаю на самом себе. У меня иногда является искушение распрячься, однако же я должен оставаться в своём ярме. Терпение и рвение — вот две превосходные вещи, с помощью которых можно достичь многого. Итак, оставайся-ка у меня на службе; ведь, служа мне, ты служишь своему отечеству, а это — высочайшее призвание человека; больше этого и я не в силах сделать.
Штельтер молча поклонился и начал докладывать одно за другим поступившие к нему дела.
Сжато, ясно и обстоятельно излагал он содержание различных бумаг, всесторонне освещая заключавшиеся в них вопросы и приводя относившиеся сюда статьи закона без всякого многословия, но вместе с тем вполне исчерпывая предмет. Тем не менее король часто вставлял в его речь свои вопросы, требовал дословного прочтения отдельных мест в разбираемых актах и тут же ставил свою резолюцию, которую Штельтер записывал на полях документа, чтобы потом прочесть её изложение королю, собственные слова которого требовалось, по возможности, вставлять в текст.
После того Фридрих дал ему письма, просмотренные им раньше поутру, и сообщил свои распоряжения относительно этой корреспонденции.
Штельтер собирался уже запереть свой портфель, когда государь взял со своего письменного стола довольно толстую тетрадь, бегло перелистал её и затем положил на конторку государственного советника.
— Вот тут, — сказал он, — министр финансов фон Герне прислал мне донесение насчёт компании торгового мореплавания; я весьма недоволен его отчётом; в нём нет ясности, я не вижу status quo фонда этой компании, а господин министр кажется мне ужасно легкомысленным. Я говорил ему ещё раньше, что если так пойдёт дальше, то мы не можем больше оставаться добрыми друзьями; однако же