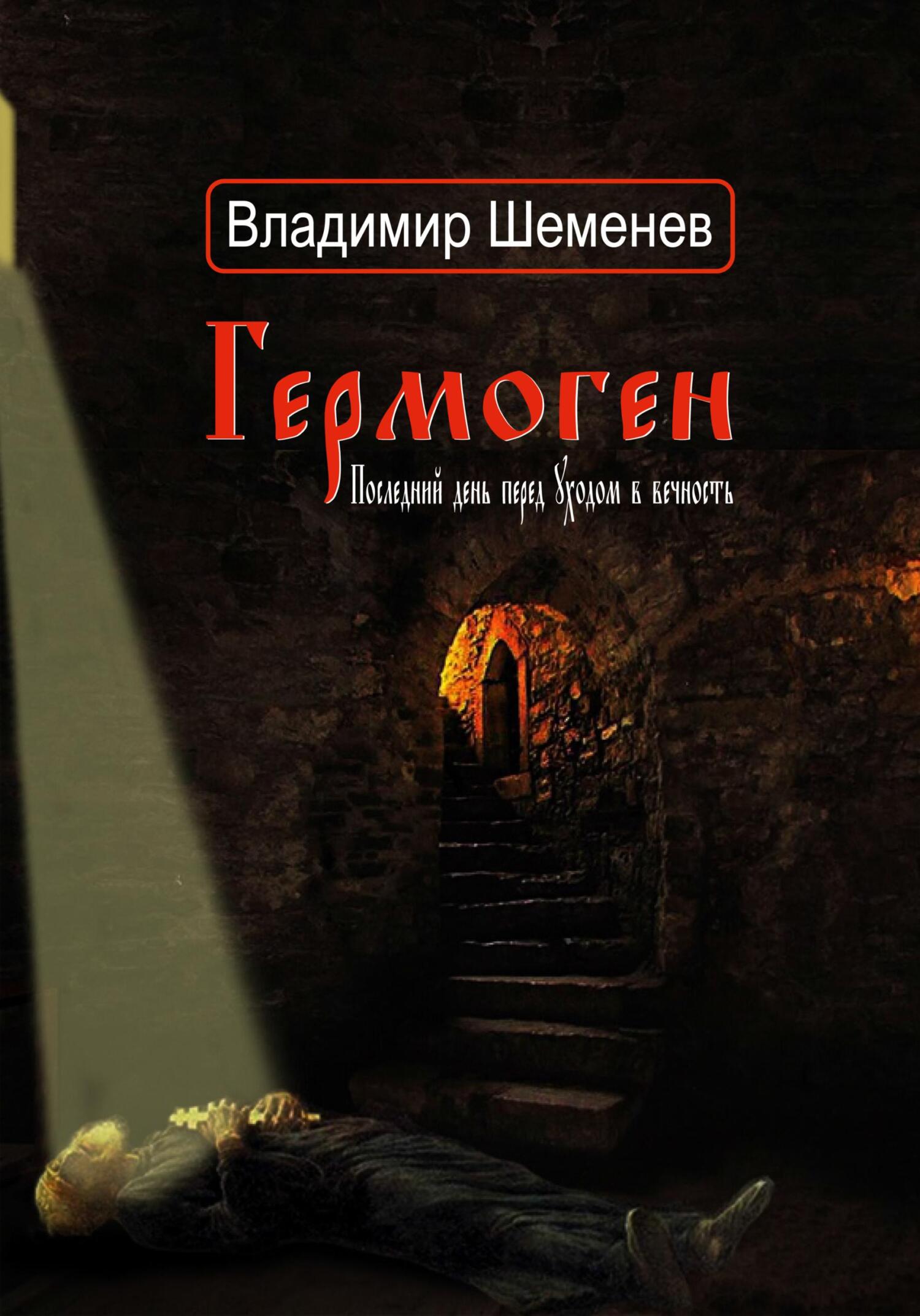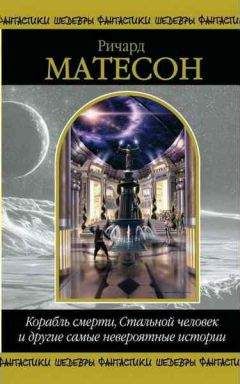польский ушлепок по прозвищу Мишка Кривой ответ истинного чада Божьего: «Что ты мне угрожаешь? Боюсь одного Бога».
Вот и спрятали его слуги бесовские в подземелье. Знал Гермоген, открыли ему ангелы, что сатана уже отдал приказ слугам своим: «Умертвить патриарха. Срубить столп Православия». А как то будет – не сказали, да и неважно это, и так всё понятно было.
***
«Вот и мое время пришло пострадать», – прошептал старец, провел рукой по холодным каменным плитам, собирая влагу с пола, и облизал ладонь. Пить не давали, есть не приносили. Голодом морили. Сколько дней? Да счет потерял, сбился. Сначала булыжником чертил по камню полоски – дни без пищи, потом перестал – сил не было до стены дойти. Стал рисовать на полу и бросил: камень с яйцо, а поднять не мог. Утекла мощь, как вода в песок.
День, два, три, месяц, два месяца, полгода или год – он уже не помнил, сколько провел в заточении. Помнил только, как выводили его под арестом из Патриарших палат. Как в Чудов 7 ввели, в чистую келью определили, келейнику разрешили прислуживать, всё хотели подсластить, уговорить, чтобы переметнулся к разбойникам. Воевод русских, что рать вели против ляхов, требовали осудить и анафеме предать, войско по домам распустить, а латинян поганых – на убийство православных благословить. Блага обещали, вкусно кушать, мягко спать. Не таков был Гермоген, не пошел против совести и против народа своего. Не испугался старец, повидавший жизнь, слов, пропитанных злобой. За то и спустили его в подвал 8, что под полуподвалом был, а тот под притвором соборной церкви Чуда Архангела Михаила, что в Чудовом монастыре сияла.
***
От каменных стен, вмурованных в самое сердце земли, тянуло сыростью, холодом, смертью. Подземелье, каменная клеть, в которую пищу, когда еще кормили, спускали на веревке через стрельчатое окно – то самое, что бросало узкую полоску света на лицо старца.
Ему шел восемьдесят второй год. Пожил для людей, послужил Богу. Хватит. Всё боялся умереть недостойно. Господь не оставил. Сподобил пострадать, принять венец мученичества за землю русскую, за народ православный.
Гермоген не боялся смерти, последние дни она часто приходила к нему. Садилась на край его ложа и молча сидела, иногда плакала, иногда вздыхала. Старцу она не казалась страшной, скорее печальной и не такой, как её малевали в церквях на фресках. Там был скелет с косой, а рядом с ним садился и сидел человек – во всяком случае, так казалось. Плащ темный, длинный, до пят, рукава распашные, широченные и капюшон сверху накинут – не видно ни рук, ни ног, ни лица. «Отчего же ты, Гермоген, – говорил сам себе старец, – решил, что это человек?» И отвечал себе же: «Может, и не человек, но дюже похож – по фигуре, по походке».
Вот и сегодня – пришла, встала и стоит, но не у ног, а посреди ложа. И не садится. И капюшона нет, и коленки сажей перемазаны. Вот тебе и на. Поднял глаза владыка, а перед ними платьице простенькое, ситцевое, с пояском узорчатым, колышется. Две косы и глаза, как озера, голубые, бездонные. Мордашка румяная и тоже в саже: как девчушка пальцами нос вытирала, так и размазано по щекам.
Руку протянул Гермоген к видению и сказал тихо, медленно:
«Матронушка 9, дитя милое, не ждал тебя, не гадал, сколько воды утекло с тех лет, наверное, уж и подзабыла меня, да и жива ли ты?»
И услышал владыка и прослезился:
«Жива, батюшка. Жива. Слава Богу, Господь продлевает дни, а вот матушку мою упокоил, в ограде Богородицкого монастыря схоронили».
«Не того ли самого, что на месте обретения святой иконы царь наш, отец, кормилец Иоанн Васильевич возвел?»
«В нем, батюшка, и я там подвизаюсь да крест игуменский несу».
«Слава Богу за все! Добрая из тебя христианка вышла».
«Так то не моя заслуга. Заступница у меня и помощница – Царица Небесная».
«Матушка Казанская, пощади нас!» – Патриарх поднял руку. Тяжело ему далось: плоть словно свинцом налитая, а с виду косточка, поверх которой рукав подрясника болтался, как мешок на палке. Поднёс руку к глазам и сдавил их пальцами, слезу промокая. Так и лежал, пока девчушку расспрашивал: «Видишь ли избавление от иноземца, Матронушка?» – Знал патриарх её имя по пострижению, Маврой её нарекли, да не звал так никогда. Детским именем величал, как и в первый раз, когда свиделись на пожарище, возле ямы, углем запорошенной.
«Вижу, батюшка, за тем и пришла, дабы тебя напоследок порадовать. Князь Пожарский да староста Минин рать собирают в Нижнем, с него и тронутся на Москву, как только Ярославль и Суздаль займут, куда отряды уже посланы».
«А образ-то Пречистой с войском?»
«С ним, батюшка, куда же без него?»
«Спаси Бог, милая, спаси Бог. Утешила старика». – Гермоген улыбнулся, наверное, первый раз за многие дни, проведённые в этом подземелье. Пар от губ пресёкся, как истаял. Рука скользнула по лицу, глухо хлопнула пальцами по иссушенной груди, соскочила и откинулась на плиты каменные, подставляя ладонь солнечному лучику.
«Ну всё, пора тебе, – фигура в капюшоне подтолкнула девчушку к световому пятну, – пришла моя очередь со старцем беседовать».
***
Капля, что висела под потолком, набухла, сорвалась и чавкнула об пол, будто точку поставила. Глянул патриарх – нет никого в темнице, и стен нет, солнце заливает всё, зелень вдали изумрудная и подсолнухи яркие, огненные.
«А день-то какой… жить хочется».
«День как день, февральский. А жить будешь, потому и пришли за тобой». – С улицы вошли два ангела в белоснежных хитонах, с копьями и в сандалиях: Михаил, в честь которого храм был назван, где старец венец свой принял, и Гавриил – спутник его вечный.
«Готов?»
«Готов, Ангелы милые, давно готов. Как только сан принял, с тех пор и живу встречей с вами и с Богом моим, и Богом вашим».
«Ну раз так… Пошли!
Подал архангел Михаил руку, подхватил старца за ладонь, протянутую навстречу, поднял с ложа, отряхнул от соломы и повёл. Так и пошёл Гермоген с ними, не оборачиваясь и не возвращаясь памятью к иссушенной плоти, оставшейся лежать на сырых прогнивших досках.
***
И было это в лето 7120 от сотворения мира, 17 февраля по старому стилю, за шесть дней до начала Великого поста. Пасха в том году выпала поздняя – апрельская.
Думка (разг.) – маленькая постельная подушечка.