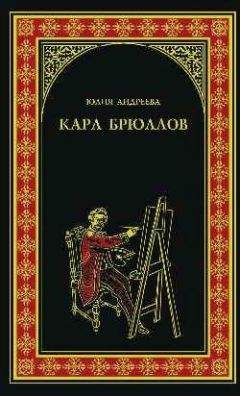Уже год, как Карл по этому делу радеет, да все не впрок, ни за что не желает упрямец Энгельгардт птицу на волю отпускать. А после того, как сам Брюллов, к которому государь с государыней в мастерскую частенько просто так, по-свойски, захаживают, лично с визитом к помещику клятому заявился и битый час перед ним распинался по поводу таланта его крепостного, тот будто еще больше утвердился, что Тарас — непростой мазилка и за него большую деньгу получить можно. После чего утомленный бесполезной поездкой Карл охарактеризовал Энгельгардта как самую крупную свинью в торжковских туфлях, но от дела не отступил, а вместо себя Сошенко прислал, чтобы тот договорился о цене выкупа. Если я правильно понял, именно Иван Максимович в свое время привел к Брюллову Тараса, которого нашел в Летнем саду, срисовывающего там статуи. Но Сошенко в свои силы после брюлловского фиаско уже не верил и оттого перепоручил миссию профессору Венецианову Алексею Гавриловичу, но и у того ничегошеньки не получилось. Вот ведь как бывает: Венецианов государя убедить способен и проделывал это многократно, а с обычным помещиком по душам объясниться… увы! Да и есть ли у него душа?
Меж тем Тарас Григорьевич совсем отчаялся обрести свободу, и говорят, руки на себя хотел наложить. Тогда за дело взялся Василий Андреевич Жуковский, который не стал разглагольствовать по поводу великого таланта крепостного, о коем Павел Васильевич Энгельгардт, без сомнения, знал, ибо отдал Тараса еще несмышленышем в обучение сначала преподавателю Виленского университета — портретисту Яну Рустему, а затем к «разных живописных дел цеховому мастеру» Ширяеву. Не стал Василий Андреевич прибегать к аллегориям, сравнивая крепостного гения с птицей в клетке, а попросту предложил помещику сумму, от которой тот не смог отказаться — 2500 рублей. Так вот, деньги эти до сих пор не собраны, сам Карл из бескорыстной любви пишет нынче портрет Василия Андреевича, дабы устроить лотерею и получить деньги для выкупа. Впрочем, как он пишет, «у меня сидит и ждет, когда я ему рапорт на высочайшее имя составлю?» Шутка ли сказать — рапорт на тему, которая скорее для анекдотов самых скабрезных, нежели для официального документа, который еще неизвестно, сколько лиц читать станут, и затем шептаться начнут по углам, пальцами показывать. Тогда уж Карлу точно не в Италию, а в Африку, в дикие саванны, в пустыни бежать придется.
А мне как сие написать? Вот если бы лично, с глазу на глаз, если бы за стаканом пунша… густо дымя сигарой, не стесняясь в словах и выражениях, разъяснить Бенкендорфу, что курвой оказался цветок эдельвейс, что барышня еще с беспечного детства имела неодолимую склонность спать со своим папенькой и после венчания сию страсть не утратила. Что Карл — жертва, а никак не преступник, как принято теперь считать.
Как же гадко все выходит на бумаге и как просто, почти по-солдатски, можно было бы все рассказать Александру Христофоровичу!
Нет, боюсь, не получится у меня неприличные дела приличным манером излагать, да еще и на бумаге.
А что, коли государь поинтересуется относительно доказательств прелюбодеяния? Или свидетелей потребует? — Каких свидетелей?! Разве ж такому делу можно сыскать свидетелей, тому, что между мужем и женой или четой любовников происходит?
Повариху, я слышал, Эмилия сама нанимала, так что та показания против благодетельницы не даст. Лукьян?.. этот вообще молчун, каких мало. А начнут учеников да друзей, которые в доме Брюллова днюют и ночуют, спрашивать. Так доброй половине этой публики веры нет, ибо соседи засвидетельствуют пьянство и гульбу непрекращающуюся. Пойдут грязным бельем трясти — не остановишь. А писать что-то нужно? Спасать Карла необходимо! Потому что в таком состоянии он не то что портрет Василия Андреевича не доделает, Тараса из неволи не вызволит, а вообще как бы чего над собой не сотворил, тоже ведь не чурка деревянная, с чувством человек, с понятием…
А тут еще эта компания, этот, прости господи, Михайлов! И что Карла тянет ко всякой сволочи?..
* * * Из записок Петра Петровича Соколова, племянника К.П. Брюллова:
Через год после неудачной женитьбы и шумного развода в доме Брюллова разразится очередной скандал. Григорий Карпович Михайлов обвинил Карла Павловича в том, что тот соблазнил его сестру. Но поскольку девица призналась, что вступила в эту связь добровольно и по любви, Григорий Карпович обещал не доводить до суда и не распространяться по поводу поведения своего наставника, профессора Карла Павловича Брюллова, в обмен на то, что дядя напишет ему две картины на те темы, какие Михайлов сам ему укажет. «Прикованный Прометей» на золотую медаль, и еще одну, героиней которой выступит непременно сестра Михайлова. Сюжет также был любезно предложен оскорбленной стороной. А именно: юная девушка, одетая в народный костюм, кается пред иконами в церкви.
Карл Павлович был вынужден согласиться, и его «Прометей» получил золотую медаль, дав Григорию Карповичу возможность выехать за границу. Вторая картина, «Девушка, ставящая свечу перед образом», была тоже выполнена моим дядей и затем подписана его учеником.
Запись в дневнике Клодт фон Юргенсбург, баронессы Иулиании:
Я действительно слышала широко известный ныне анекдотец относительно того, будто Карл Павлович написал две картины за своего ученика Григория Карповича Михайлова, дабы прикрыть таким образом грех. И хотя лично я не знакома ни с Григорием Карповичем, ни с его сестрицей, но видела обе картины и могу сказать, что они действительно написаны в брюлловской манере, но только и всего. Ученики обречены поначалу в чем-то повторять своего учителя, иначе какие же они ученики? В «Нарциссе» Брюллова явно читается его учитель Иванов… Если кого-то когда-нибудь будет интересовать мое мнение на этот счет, то я с уверенностью скажу, что господин Михайлов, по всей видимости, весьма талантливый копиист, но в скором времени, дай бог, мы увидим и другие его произведения, созданные уже его личным трудом и душевными страданиями, а не только желанием непременно подражать гению своего великого учителя.
Что же до пикантной истории, то… об этом я предпочту деликатно не распространяться, ибо не верю в нее с самого начала, потому как если бы и имела место амурная связь, Карл Павлович — достаточно свободомыслящий человек для того, чтобы не побояться общественного мнения и жениться вторично, пусть даже и на бывшей крепостной. Да, если бы он действительно любил девицу Михайлову, не знаю ее имени, он с презрением отринул бы общественное мнение и повел ее под венец. Если же этого не произошло, а после первой неудавшейся женитьбы Карл больше не вступал в брак, стало быть, никакой любовной связи здесь и не было.
…вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить.
Из письма Н.В. Гоголя А.С. Данилевскому, апрель 1837 года
— О, Италия… высокое голубое небо, спеющий на солнце виноград, вино, сыр, оливки… простая, часто бессмысленная жизнь. Там, где, казалось бы, еще вчера проходили знаменитые сражения, ныне пасутся коровы и звучит тихая свирель. Львов заказал картину «Эрминия у пастухов», я писал «Вакханалию». Каждый день маслом, сепией, акварелью, просто карандашом рисовал на улицах города или за городом. Здесь все интересно!
Начинал и бросал, вновь брался за кисть, но увлекали новые идеи, идей было много. Так много, что за жизнь всего не переделаешь; для памяти старался зарисовывать ускользающие картинки. Можно сохранить в памяти сюжет, а как быть с самим желанием писать? С охотой, которая пуще неволи? Как сохранить, отложить на завтра душевный пламень? Десятки начатых картин, и из них лишь «Дафнис и Хлоя» закончена и может быть представлена господам из Общества поощрения художников. Прошла итальянская зима, зима без снега, но пасмурная и прохладная, когда вдруг становится неуютно на улицах, и приходится подолгу сидеть с друзьями в остериях[32], потягивая вино и то и дело поглядывая на небо, не проглянет ли солнышко. От стола в мастерскую или, завернувшись в плащ, идти смотреть старых мастеров. Приходится сокращать прогулки, временно отказаться от пейзажей и уличных зарисовок. То есть рисовать только в помещении, в противном случае можно подцепить навязчивую итальянскую лихорадку, которая донимает с закатом солнца.
Впрочем, шарф потеплее на шею, шерстяную или фланелевую фуфайку, тот же плащ — и вперед. Щедрин не пропускал ни одного дня, даже когда дул ледяной ветер. Героический человек! Я же в ту пору близко сошелся с князем Григорием Ивановичем Гагариным, знакомство с которым свел еще в Петербурге. Теперь же часто гостил у него в местечке Грота-Феррата — настоящем замке в двадцати милях от Рима.
Главное — успеть, поймать, сохранить. В Италии можно смеяться, падая от усталости на скамью дешевой харчевни, смеяться в постели с незнакомкой, радоваться жизни в нищете и богатстве. В России в то время было проблематично найти повод для безмятежной улыбки.