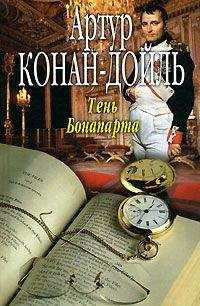За ним ехало человек двенадцать офицеров, и все они были так веселы, как будто бы охотились за лисицей: к вечеру из этих двенадцати человек не осталось в живых ни одного.
— Жаркое дело, Адамс, — сказал герцог, подъезжая к нам.
— Очень жаркое, ваша светлость, — отвечал наш генерал.
— Но, я думаю, мы сможем выдержать их натиск. Ведь не можем же мы допустить, чтобы их застрельщики заставили замолчать нашу батарею. Переведите этих солдат на другое место, Адамс.
Только тут я узнал, какое необъяснимое чувство овладевает человеком, когда ему приказывают идти в бой. До сих пор мы просто лежали на земле и нас убивали, а это самое скучное дело в сражении. Теперь наступила наша очередь, и клянусь вам, мы были вполне готовы к этому. Мы, то есть вся бригада, сразу вскочили на ноги и, выстроившись в четыре ряда, бросились на засеянное рожью поле. Когда мы подходили, застрельщики дали по нам залп, а потом начали пробиваться сквозь рожь, точно перепела, — опустив головы, согнув спины и волоча за собой ружья. Половина из них ушла от нас, но остальных мы догнали — сначала офицера, потому что он был очень полным человеком и не мог бежать быстро. У меня закружилась голова, когда я увидел, как Роб Стюарт вонзил свой штык в широкую спину француза, и тот завыл, точно грешник в аду. На этом поле никому не было пощады, и все они были перебиты. Наши солдаты рассвирепели, и неудивительно, потому что эти осы жалили нас все утро, а мы были не в состоянии даже толком их разглядеть.
Мы прошли до самого дальнего конца засеянного рожью поля и очутились перед дымовой завесой: тут стояла на своей позиции вся французская армия, от которой нас отделяли только два луга и узкая проселочная дорога. Увидя французов, мы испустили крик и, дай нам волю, бросились бы в атаку, потому что глупые молодые солдаты часто рискуют головой без всякой пользы. Однако на сей раз рядом с нами ехал рысью на своей лошади герцог, и вот он что-то крикнул нашему генералу. Вслед за этим все офицеры подались вперед и своим оружием преградили нам дорогу. Заиграли сигнальные рожки, началась толкотня и давка, сержанты бранились и распихивали нас алебардами, и скорее, чем я успею написать эти строки, вся бригада выстроилась в три небольших правильных каре с торчащими со всех сторон штыками, как это называется — эшелоном, так, чтобы каждое каре могло стрелять, не задевая другого.
Это было для нас спасением, что легко мог понять и я, хотя и был всего лишь мальчишкой-солдатом. На нашем правом фланге был низкий отлогий холм, и из-за него доносился звук, который можно сравнить разве что с шумом волн на бервикском берегу, когда ветер дует с востока. Вся земля содрогалась от этого глухого рокота.
— Смелее, 71-й полк, ради Бога смелее! — кричал за нами голос нашего полковника, хотя перед нами не было ничего, кроме отлогого зеленого ската, покрытого травой и испещренного ромашкой и одуванчиками.
И вдруг из-за холма показались разом восемьсот медных касок с длинными хвостами из конских волос, развевающимися по воздуху, а затем восемьсот свирепых лиц, которые, сверкая глазами, смотрели на нас между ушами такого же числа лошадей. С минуту можно было видеть только блеск кирас, свистящие в воздухе сабли, развевающиеся гривы лошадей, их раздувающиеся красные ноздри и слышать топот копыт; затем послышался ружейный залп, и наши пули застучали, ударяясь об их кирасы, точно град об оконные стекла. Я выстрелил вместе с остальными и затем как можно скорее забил новый заряд стараясь разглядеть сквозь дым, что происходит передо мной; но видел лишь что-то длинное и тонкое, медленно двигающееся взад и вперед.
Нам дан был рожком сигнал прекратить стрельбу; порыв ветра рассеял окутывавший нас дым, и тут мы разглядели, что случилось.
Я ждал, что половина кавалерийского полка лежит на земле; но то ли французов спасли их кирасы, то ли мы, молодые солдаты, в суматохе выстрелили слишком высоко, только залп не причинил им большого вреда. Около тридцати лошадей лежало на земле, три из них на расстоянии десяти ярдов от меня; средняя лежала на спине, задрав кверху все четыре ноги; одна из этих ног и была тем непонятным предметом, который я видел сквозь дым. Около восьми или десяти человек были убиты и приблизительно столько же ранены: они еще не могли прийти в себя и сидели на траве, хотя один кричал изо всей силы: «Vive l’Empereur!»[12] Другой солдат, раненный в бедро — он был высокого роста и с черными усами, прислонился к своей убитой лошади и, подняв с земли свою винтовку, продолжал стрелять с таким хладнокровием, как будто бы находился в тире, и попал прямо в лоб Августу Мейерсу, стоявшему от меня через двух человек. Затем он протянул руку, чтобы поднять другую винтовку, лежавшую неподалеку, но тут громадный ростом Ход-сон, самый сильный солдат во всей гренадерской роте, выскочил вперед и всадил ему штык в шею.
Сначала я думал, что нам просто за дымом не видно, как кирасиры обратились в бегство; но они были не из таких. При нашем залпе их лошади шарахнулись в сторону, и они попали под выстрелы двух других каре, находившихся за нами. Тогда они проскочили сквозь изгородь и, натолкнувшись на полк ганноверцев, выстроенный в линию, поступили с ними так, как поступили бы с нами, если бы мы не выказали такого проворства, — в одну минуту изрубили всех солдат в куски. Было ужасно смотреть, как долговязые немцы бегали и кричали, а кирасиры приподнимались на стременах, чтобы ловчее взмахнуть длинными тяжелыми саблями, которыми резали и кололи без милосердия. Вряд ли из всего полка осталось в живых хотя бы сто человек. После этого французы вернулись и проскакали перед нашим фронтом; они кричали и махали саблями, которые были красны от крови до самой рукоятки. Это они делали для того, чтобы заставить нас стрелять, но полковник, опытный воин, удержал нас, потому что мы не могли принести им большого вреда на таком расстоянии, а они набросились бы на нас прежде, чем мы успели бы вторично зарядить ружья.
Эти верховые опять скрылись за холмом по правую руку от нас, а мы прекрасно понимали, что, если бы мы разомкнули каре, они моментально налетели бы на нас. С другой стороны, было трудно оставаться в таком положении, потому что французы установили на расстоянии нескольких сотен ярдов от нас батарею, состоящую из двенадцати пушек, и стали стрелять так, что ядра пролетали прямо в середину нашего каре, — это называется беглым огнем. А один из их артиллеристов вбежал по склону на вершину холма и на глазах у всей бригады воткнул в сырую землю кол, чтобы он служил им указанием, и ни один из солдат не выстрелил в него, — каждый надеялся, что это сделает другой. Прапорщик Симпсон, бывший самым младшим офицером в полку, выбежал из каре и вытащил из земли кол; но стремительнее щуки, которая гонится за пескарем, на холм взлетел какой-то улан и нанес прапорщику сзади такой удар пикой, что не только ее острие, но и ствол прошли насквозь между второй и третьей пуговицами мундира. «Элен! Элен!» — воскликнул Симпсон и упал ничком на землю, между тем как улан, изрешеченный ружейными пулями, свалился с лошади около него, все еще держа в руках свое оружие: так они и лежали вместе — смерть соединила их страшными узами.
Когда батарея открыла огонь, у нас не осталось времени думать о постороннем. Каре хорошо для того, чтобы встретить кавалерию, но это самый неудобный строй, когда летят пушечные ядра, в чем мы скоро убедились, когда они начали оставлять среди нас кровавые следы. Наконец нам надоело слышать это постоянное шлепанье, звук, который производит твердое железо, ударяясь о живое тело. Через десять минут мы переместились на сто шагов вправо; на том месте, на котором мы стояли, остались убитыми сто двадцать рядовых и семь офицеров. Но потом пушки снова отыскали нас, и мы попробовали выстроиться в линию, однако в ту же минуту кавалерия — теперь это были уланы — бросилась на нас в атаку по склону холма.
Надо сказать, что мы обрадовались, услышав топот лошадей: мы знали, что благодаря этому прекратится на некоторое время пушечный огонь, и это даст нам возможность отразить нападение. На этот раз мы отразили его с достаточной силой, потому что были хладнокровны, злы и свирепы; что до меня, я не обращал большого внимания на этих кавалеристов, словно это были овцы в Корримюре. На войне человек по прошествии некоторого времени перестает бояться за собственную шкуру. Чувствуешь, что непременно нужно заставить кого-то заплатить за то, что пришлось испытать самому. На этот раз мы отплатили уланам, потому что у них не было кирас, которые могли бы защитить их, и семьдесят человек из их числа мы выбили залпом из седла. Может быть, это и не доставило бы нам такого удовольствия, если бы мы видели семьдесят матерей, плачущих о своих сыновьях; но в сражении люди делаются похожи на диких зверей и ни о чем не думают, точно так же, как два щеика-бульдога, схватившие один другого за горло.