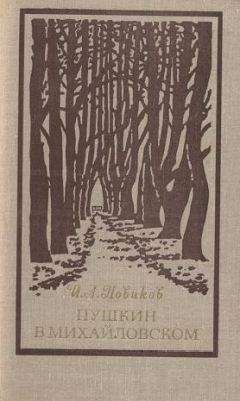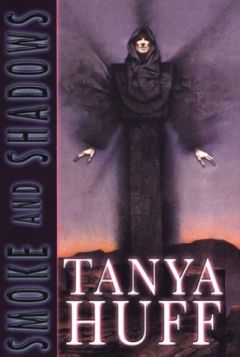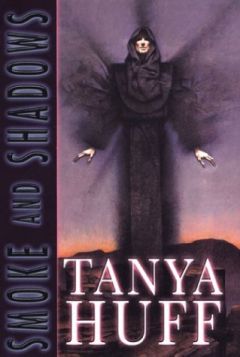Пушкина все это слегка забавляло. Но лишь на поверхности. Почти физически ощущал он давление, шедшее, впрочем, не от одного отца, а и от общего ощущения связанности, оторванности от мира; как никогда, чувствовал он свое одиночество. Почти вдогонку за Вульфом стихами писал и ему и Языкову — молодому поэту, также учившемуся в Дерпте, которого звал приехать на святки.
Вульфу писал по-мальчишески весело, отбросив тоску и, как всегда, крепкою фразой лепя и собирая, давая разом всю полноту их беспорядочной жизни:
Запируем уж, молчи!
Чудо — жизнь анахорета!
В Троегорском до ночи,
А в Михайловском до света;
Дни любви посвящены.
Ночью царствуют стаканы;
Мы же — то смертельно пьяны,
То мертвецки влюблены.
Когда он прочел это вслух в Тригорском, ему рукоплескали, как будто все это уже было, и притом именно так. Если бы каждого спросить о их жизни, как они ее себе представляют, и каждый сказал бы всю правду, как все же неполно, серо и разорванно прозвучал бы рассказ! А теперь уж и им самим начинало казаться, когда повторяли волшебные строки, что иначе не скажешь: так и останется это, так и пребудет навеки.
Языков ему не был знаком, но, затомившись с родными, Пушкин хотел, как будет один, принимать у себя — анахорет — живых и свободных людей, с которыми можно бы так же широко и вольно распахнуть свою душу, как делал он это в послании. Что из того, что не знал он Языкова? Его досягало уже и обжигало дуновение быстрого пламени этого юноши-поэта: «Издревле сладостный союз // Поэтов меж собой связует!»— и Пушкин свой внутренний мир ему открывал с непостижимою прямотой:
Всегда гоним, теперь в изгнанье
Влачу закованные дни.
И этих «закованных дней» здесь он, в Тригорском, никому не показал, запечатав в особый конверт послание к Языкову, доверив ему одному — незнакомцу, но брату поэту — горькие строки другой своей правды.
Он и ему, впрочем, писал о веселье, никак не желая сдаваться. Минуя уже теперь свое одинокое время, на святки он ждал к себе брата, который был еще здесь, но вот-вот должен был отъезжать. Ждал он и доброго Дельвига.
Дельвиг его очень смешил, но и трогал. В ответ на его крепкие жалобы друг утешал: «Великий Пушкин, маленькое дитя! Иди, как шел, то есть делай, что хочешь; но не сердись на меры людей, и без тебя довольно напуганных! Общее мнение для тебя существует и хорошо мстит. Я не видал ни одного порядочного человека, который бы не бранил за тебя Воронцова, на которого все шишки упали». «Журналы все будешь получать. Сестра, брат (родителей Дельвиг теперь уже не поминал), природа и чтение: с ними не умрешь со скуки. Я разве буду навозить ее». И передавал петербургское свое невеселье: «Квартальных некому бить. Мертво и холодно…», «…с появления Булгарина Литература наша совсем погибла. Подлец на подлеце подлеца погоняет», «Жуковский, я думаю, погиб невозвратно для поэзии. Он учит великого князя Александра Николаевича русской грамоте и, не шутя говорю, все время посвящает на сочинение азбуки. Для каждой буквы рисует фигурку, а для складов — картинки».
Это письмо послано было с оказией; его привез к Осиповой повар Арсений, ездивший в столицу с двумя возами капусты, моркови и яблок; продал все хорошо и накупил для хозяев всякой всячины.
— Квартальных видал? — спросил его Пушкин.
— Так точно. Стоят на местах.
— И никто их не бьет?
Солидный Арсений не удивился вопросу ничуть и философски ответил, в тон Дельвигу:
— А видно что, барин, и некому бить.
Пушкин даже не засмеялся.
У него в это время шла сложная, острая жизнь. И если с отцом изо дня в день назревала пока еще скрытая ссора, то столкновения с миром шли и другие. Лава не вовсе остыла, и жаркие недра время от времени давали толчки. «Разговор книгопродавца с поэтом» развернулся целым сражением с широкою линией огня, и если рукопись эту он собирался «продать» как вступление к первой песне «Онегина», то «вдохновение» свое он подчинил только тактике боя. Он рушил кумиры и предрассудки один за другим и сражался не столько с «книгопродавцем», которому вкладывал и здравые мысли, сколько с самою жизнью — как она складывалась; впрочем, было это отчасти борьбою и с собою самим: с иллюзией славы и даже любви.
Слава не трогала сердца. Но он без конца черкал и правил, кусая перо, вставая и глядя в окно, а взор застилался видениями…
Он писал при свече, забыв и ночь и людей. За ним на стене лежала, горбатясь, черная малоподвижная тень, и тень от пера быстро скользила по огромной тетради, вывезенной им из Кишинева после разгрома «ложи Овидия»: он ободрал с переплетов масонские знаки и взял три тетради себе. Имя Овидия, тоже поэта-изгнанника, так же бродившего в ссылке по берегам Черного моря, так было близко ему! И он суеверно эти тетради любил, хотя и была в них бумага очень плоха. Но что же, однако? Как по-другому ложились слова, когда он теперь писал не для женщины и не покорствуя ветру любви, а о женщине и о любви. Горечь стояла в груди, и горечь, казалось, капала с огрызка пера.
Но собственная тень за спиной, горбатясь, его вопрошала: ужели же нет исключений?
И тут сливались стихи с самой жизнью. Море, Одесса и грот… С размаху кидал на бумагу горький вопрос: «Что жизнь? Одна ли, две ли ночи?» — и обрывал: и для нее этот вопль покажется диким лепетаньем безумца; так решено судьбою…
Внезапно раздался скрип двери и шарканье туфель; это бессонница мучит отца. Каждую ночь он встает и бродит по дому… И Пушкин захлопнул тетрадь.
От Воронцовой все не было писем. Раевский стоял темной загадкой. Единственным окошечком в мир (в Одессу) была и осталась Вера Федоровна Вяземская. Из деловой, полученной Пушкиным, записки от мужа ее, Петра Андреевича, он знал теперь, что она уже в Москве. В ответе ему об Елизавете Ксаверьевне Пушкин совсем умолчал и послал аттестацию самого только графа: «Полу-герой, полу-невежда…»
И все-таки по-настоящему душу отвел лишь в письме к самой Вере Федоровне: «Прекрасная и милая княгиня Вера, прелестный и великодушный друг!»
Это было ответом на то самое письмо, которое он разорвал на берегу перед отцом. Он и ей приносил свои горькие жалобы — далекому другу, который поймет… Но прежде всего выражал свое умиление и признательность, хотя тут же отчасти и мягко журил, совсем как Онегин Татьяну. Впрочем, он не щадил и себя: «Вашей нежной дружбы было бы достаточно для всякой души, менее эгоистической, чем моя…» И даже послал ей одну из этих ответных онегинских строф, только как раз и написанных, — строфу, «которою я вам обязан». Не без легкого лукавства он предлагал показать ее «князю Петру», зная наверное, что она не покажет…
Он ей писал и о «бешенстве скуки, которая снедает мое глупое существование», и, вспоминая юг, говорил: «Все, что напоминает мне море, наводит на меня грусть… думаю, что хорошее небо заставило бы меня плакать от ярости, но слава богу: небо у нас сивое, а луна точная репка», и обрушивался кстати на бедных тригорских девиц (отчасти чтобы доставить ей это невинное удовольствие). А в заключение самое главное — горячая просьба: «Ради бога, хоть одно слово об Одессе…»
Все было в этом: Одесса молчала, и напрасно чертил он в тетрадях милые профили… Та самая луна — «точная репка» — всходила, томя, за сосновою рощею. Эти стихи — посылать ли? И где была она? «Где та была, которой очи, как небо, улыбались мне?..» Из письма Раевского он знал, что она в Александрии, по теперь, уж верно, была снова у моря…
Вот время: по горе теперь идет она
К брегам, потопленным шумящими волнами;
Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит, печальна и одна…
Одна… Никто пред ней не плачет, не тоскует;
Никто ее колен в забвенье не целует;
Одна… Ничьим устам она не предает
Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных.
Пушкин даже бумаге не доверял всех этих видений. Он писал и густо вымарывал целые строки. Но чувство нельзя было вычеркнуть из груди, оно заменяло собою действительность. О, если так, он спокоен: но если…
В этом «если» он уже ссорился и с самой Елизаветой Ксаверьевной и, думая о Раевском, просто немел от горечи подозрений и ревности. Слава, любовь… но, быть может, труднее всего было сражаться именно с дружбой!
Как с Николаем Раевским Пушкину было легко, так от Александра всегда шла какая-то напряженная, властная тяжесть. Пушкин его очень любил и ставил высоко. Еще после кавказской их встречи, в двадцатом году, он предрекал, что Александр Николаевич «будет более нежели известен», а позже считал его за человека «которому предназначено, может быть, управлять ходом весьма важных событий». И в Каменке, среди многих заметных людей, он оставался своеобычным, ни с кем не сравнимым, изображая человека всем недовольного и все презирающего.
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи