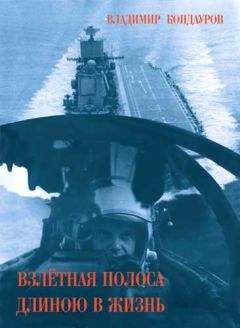— Это очень важное задание, товарищ Природин. Представьте себе ситуацию. Туркменский народ, раздетый и разутый, голодный, всю жизнь мечтал о лучшей доле, а теперь, когда наступило время одеться, обуться и наесться досыта, — по недоразумению и неграмотности бежит со своей земли за предводителем-ханом. Подались все отсюда в Кумыш-Тепе, словно пчелы за пчелой-маткой. Обидно даже!
— Так вот, товарищ Природин, — вновь заговорил Атабаев, — надо этого хана уговорить вернуться. За ним и все дехкане возвратятся в эти места.
— Но с чего начинать-то, товарищи? Я же этого хана и в глаза ни разу не видел!
— Письмецо мы заготовили, — говорит Паскуцкий и достает пакет. — Вот это письмо. Вручаем его вам, как молодому партийцу-ленинцу, поезжайте с ним в Кумыш-Тепе. С вами будут еще два человека из ЧК.
— Ну, коли поручение партийное, что тут раздумывать. Когда отправляться?
— Сегодня, в крайнем случае завтра, к вам зайдут ваши попутчики — и отправляйтесь... Не забудьте, к кому едете. Зовут его Николай Николаевич Иомудский, бывший царский полковник. А по-простому, по-туркменски, просто Иомуд-хан.
Уже уходя, решил я полюбопытствовать:
— Про между прочим, у меня к вам есть вопросик: не скажете, кому это пришло в голову рекомендовать мою кандидатуру?
Атабаев отвечает степенно:
— Куйбышев рекомендовал. Валериан Владимирович.
— Ах, вот оно что! — говорю. — Смею заверить вас, все, что в моих силах, будет сделано.
Утречком, где-то на рассвете, зашли ко мне двое в туркменской одежде. Познакомившись, вышли на берег. Тут — лодка туркменская, парусная. Подняли парусок и — айда в путь далекий, вдоль восточного каспийского берега. На юг. К Астрабадскому заливу.
Четыре дня ползли под парусом и все четыре дня колыхало нас, как младенцев в люльке.
И вот прибываем в этот самый Кумыш-Тепе, что по-русски означает — Серебряный бугор. Давно еще его так нарекли. В средневековье. Тут, говорят, на бугре и рядом, пониже, был целый город — Абескун назывался. Потом налетели монголы, разорили его. А когда вновь вернулись жители его, то стали находить на кургане серебряные монеты. С той поры и назвали курган Кумыш-Тепе. Сейчас его, конечно, городом не назовешь. Вокруг бугра сплошь стоят войлочные кибитки, да верблюды косяками ходят. Рабат, правда, возле самой реки имеется. Это большой постоялый двор с сараями и базарной площадью. В нем, по слухам и рассказам хозяев нашей лодки, укрылись беглые офицеры.
Причалили мы к берегу ночью. Попрощались с лодочниками и отправились в этот самый рабат. Сунулись — ворота заперты. Дождались утра. Утречком потянулись на базарную площадь со всех сторон торгаши, вот и мы вместе с ними.
— Салам алейкум, — говорим каждому.
— Ас салам алейкум, — отвечают.
Зашли в чайхану, сели на кошму, заказали три чайника чая. Сидим, прислушиваемся, о чем лопочут люди. Вдруг все насторожились, смотрят на чайханщика. А он ведет беседу с двенадцатилетним парнишкой. Оказывается, всех заинтересовал этот паренек. Это был младший сын Йомуд-хана. Вот оно что! Отвесил ему чайханщик фунта два конфет и спрашивает:
— Куда так много берешь конфет-то?
— Ай, — отвечает мальчуган. — Старший брат уезжает, в дорогу с собой возьмет.
Ушел мальчишка, а я своим чекистам говорю:
— Ну-ка, разведайте, что это за брат такой и куда он едет?
Те слово за слово, по-туркменски, конечно, и развязали язык чайханщику. Тот подсел со своей пиалой. Грызет конфетки и рассказывает. У Иомуд-хана, мол, трое сыновей. Двое подростки, а старший — офицер-гусар. Бежал сюда к отцу из Петербурга. Но, на свою беду, привез какую-то актрису. Жена — не жена, но любит ее очень крепко. Это, считай, для нее конфеты. Съест за дорогу, пока во Францию будут добираться. Спрашиваем чайханщика: кто именно во Францию собирается? Он говорит: старший сын с этой вертихвосткой. А сам Иомуд-хан, якобы, сказал старшему: если уедешь — забудь, что у тебя есть отец и мать. Тогда ты не туркмен, ты свою родину предал. Порасспрашивали мы еще о том и о сем и сделали вывод, что полковник Иомудский — на распутье. Не знает, что делать, как быть. Советскую власть побаивается, эмигрировать в Европу тоже наотрез отказался: все офицеры туда уже выехали. И шаху персидскому служить не хочет. Если б не сыновья да не жена — пустил бы пулю себе в лоб: такое отчаянное положение!
Решили так. Подождем, пусть проводит старшего сынка с актрисой, а тогда и поговорим. Пока что завели знакомство с младшим сынком Иомуд-хана. И вот что ведь любопытно. Оказалось, он по-русски чисто лопочет, а по-туркменски кое-как. Среди русских жил. Окружение сказалось.
И вот как-то раз въезжает в ворота рабата арба. Тянет ее этакий дюжий, косматый верблюдинер, а на арбе мешки с чем-то. Люди, как увидели наполненные мешки, — пустились, сломя голову, к арбе. Стали стаскивать поклажу, развязывать мешки. А что в них — понять невозможно. Арбакеш кричит, машет камчой, никак не может людей отогнать. Наконец, все успокоились. Чертыхаться начали, плевать за ворот. Что такое, думаю, и подошел. Присмотрелся, оказывается, книги. Да какие книги! Аксаков, Толстой, Мопассан, Флобер. Вся русская и европейская классика. Говорю своим товарищам, чтобы спросили, откуда взял он эти книги.
Туркмен выслушал и говорит так небрежно: «Ай, русского генерала в Хуммет-Кобусе разорили. Самого убили, а добро по рукам разошлось. Мне вот книги достались. Привез сюда. Думал продать. Ведь людям насвай не в чего заворачивать, а тут столько бумаги». Вот ведь до чего додумался, шельма! Жалко: пропадут не за понюх такие книжки. И сберечь их невозможно. Тут смотрю, появляются сам Иомуд-хан и с ним младший его сынок. Полковник в сапогах, в фуражке и кителе, только погон на плечах нет. Видно, сам себя разжаловал, а может, еще и раньше снял, когда в Красноводске жил. Скользнул он по нашим лицам беглым взглядом, словно спрашивая, кто, мол, такие, и на арбакеша:
— Сучья тварь! Как посмел ты рвать и уничтожать это великолепие? Это же книги!
Старик-туркмен оправдывался, лепетал что-то. А Иомуд-хан вытаскивает из галифе толстый бумажник и спрашивает: «Сколько тебе за все?» А тот канючит и переминается с ноги на ногу: «Не знаю, мол. Сколько дашь, хан-ага, все равно благодарны будем». Иомудский отсчитал сколько-то и говорит: «Все до одной книги забираю». И тут обращается к нам, по-туркменски, конечно:
— Не поможете ли, уважаемые, снести мешки с книгами в мою кибитку?
Товарищи мои берут по мешку на плечи, я — тоже. Полковник с сыном хватаются за четвертый мешок, арбакеш, взваливает на горб пятый, и таким образом мы переносим в кибитку Иомуд-хана библиотеку бывшего царского консула. Иомудский захотел, видимо, отблагодарить нас: кошель вынул. Тут мои попутчики останавливают его благой порыв. Извините, мол, хан, но денег нам не надо. Тогда Иомудский приглашает пообедать с ним. С удовольствием принимаем приглашение. Садимся. Жена его подает на скатерть лепешки, жареное мясо и сметану в пиалках. Начинается разговор. Рассказывает он что-то моим товарищам на своем языке, а я вовсе не понимаю, о чем речь. И вдруг он произносит по-русски:
— Поговорил бы с вами и о другом, да все равно ничего не поймете. Темнота безграмотная.
Меня всего передернуло. Дай, думаю, рискну, откроюсь, что русский, — неужели за пистолет схватится?
Если схватится, мы его тут же свяжем, а ночью уволокем к себе на лодку и переправим к Атабаеву и Паскуцкому.
— Поймем, господин Иомудский, — произношу я четко. — Почему же не поймем? Не такие уж мы безграмотные.
Он вздрогнул, глаза вытаращил и смотрит на меня, как на шайтана, явившегося с того света. Тут же взял себя в руки, спрашивает:
— Откуда вы и кто?
— Россиянин я, — отвечаю ему. — Пришел с той, советской стороны, а теперь вот думаю возвращаться. Говорят, теперь там — не гнев, а милосердие на первом плане. Всех, кто принимает Советскую власть, берут к себе на службу.
— Всех, да не всех, — печально отзывается Иомудский. — Меня вряд ли там ждут...
Я тут чуть было не испортил все дело. Чуть не крикнул: «Да вот же письмо у меня, адресованное вашей милости. Собирайте манатки и поезжайте к руководству армии!» Но, слава аллаху, сдержался. Если б я сказал такое, Иомудский сразу бы подумал: раз человек специально подослан, значит, ничего хорошего не будет». Выдержал я паузу, поразмыслил: «С письмом всегда успею» и опять за свое.
— А почему вы вдруг решили, господин полковник, что вас не ждут?
— Послушайте, уважаемый, — обрывает он меня. — Во-первых, я давно, с самого семнадцатого года — не полковник, во-вторых,— не господин. И беспокоит меня не мое настоящее, ибо в настоящем я никакого зла людям не несу, а беспокоит меня мое прошлое. Не простят мне господского полковничьего звания большевики. Я ведь, по правде говоря, зла большого никому не причинил, даже в войне против революции не участвовал, но раньше, еще в империалистическую, состоял при штабе генерала Куропаткина.