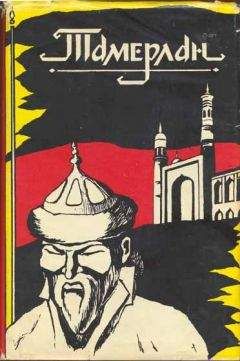Улыбаясь и пошлепывая туфлями, шах в широком халате, накинутом поверх розовых шелков белья, прошелся, слегка наклонив голову. Неожиданно он остановился прямо перед беком:
— А разве Великий Повелитель поставил вас сюда не затем, чтобы мой слух и мое зрение стали острей? Если чего-то я недослышал, он спросит с вас. Я недоглядел — с вас же спросит.
— Я не собака, чтоб хватать людей на улицах.
— Люди на улицах? Сейчас?
— Теперь уж нет. Улицы пусты. Ушли! А куда? Какой был слух, что случилось?
— Я не издавал указа ни выходить на улицы, ни уходить из города.
— Кто ж их погнал среди ночи? Сами спите, так хоть караул бы поставили!
— Ночные караулы выставляете вы, почтенный бек. Зачем мне вмешиваться в ночные дела? Вы у нас — князь ночи.
— Караулов не хватит, чтоб перегородить все переулки. Ворота-то в городе ни одни не запираются. Стен нет!
— Не подговариваете ли вы меня восстановить стены, срытые по указу повелителя?
Бек шумно и размашисто прошелся по зале, отвернувшись к стене и небрежно оглядывая искусную роспись — узоры, цветы, птиц…
В раздражении, словно оступившись, он ткнул плеткой в стену.
— Птички?
— А что?
— Греха не боитесь!
— Я не читал в Коране, что птички — грех.
— И я не читал. И без Корана известно, что всякую живность изображать грех, — птиц, скотов, девок… Тут не языческая Индия! Вот доизображаетесь до всякого такого!.. Богословы-то не погладят по головке.
— Коран молчит об этом. А разговоры, не подтверждаемые Кораном, суть суесловие.
— "Кораном, Кораном"! Я не мулла. У меня повелитель спросит, куда сбежал народ из города. Почему кызылбаши сбежали от своего шаха? А ведь без народа, мол, не дорог шах. Что я отвечу? Что скажу? А вы — "птички, Коран"! Не до птичек! Где народ?
— Почтеннейший бек, где мой народ?
— Что мне отвечать повелителю?
— Я не учитель ваш, вы — не ученик мне. Сами вы разумеете, как поступить. Я лишь догадываюсь, как вы поступите, — поутру наберете каких-нибудь ротозеев на базаре, какие попадутся, прежде чем соберется базар. Они сознаются, что ночью пытались уйти из города. Затем вы приведете их назад на базар, чтобы все в Шемахе видели негодяев, пытавшихся уйти из города, и повесите их для острастки и для вразумления, всему базару напоказ. Повелитель узнает, что вы строги, что никого не пускали, что не хватило времени для поимки всех остальных.
— Я и с караульщиков сдеру шкуру. Но народ-то ушел! Куда? Куда и по какой причине ушел? Как только караулы меня известили, я кинулся к вам. Везде уже пусто. Одни кошки шныряют поперек улиц. Ни души! Что случилось?
— Я догадываюсь, если вспомнить, когда народ бежит без спросу. Когда уходит от своих очагов.
— Повелитель идет? Ну, ну… откуда они пронюхали раньше нас? Повелитель? Сюда?..
Бек замер при этой мысли: "Придет сюда… Вызовет к себе… Где народ, спросит… Что сделано за зиму?"
А шах, улыбаясь, говорил:
— Я вам коня дарю, почтеннейший бек.
— Что за конь? — спросил без радости бек.
— Араб.
— У вас есть?.. Откуда? Долго ж прятали от меня!
— Зимой купцы привели. Я взял. Для подарка вам. Вдруг повелитель пожелает видеть и меня и вас. Вам понадобится хороший конь в дар повелителю.
— К повелителю с одним конем не явишься!
— Ну, если хорошенько заседлать!.. К тому ж от меня будут другие подарки.
Бек задумчиво поклонился, поблагодарил и, приговаривая: "Почивайте, а то уж светает!", ушел.
Ширван-шах, сожалея, что из-за бека опоздал к первой молитве, прошел по безмолвным и еще темным комнатам в свои маленькие жилые покои.
Следовавший за ним слуга, длинный сутулый старик, принял с его плеч халат и пробормотал:
— Кто мог, все ушли.
Как бы себе самому, шах в раздумье откликнулся:
— Я не мог сам раздавать им хлеб. Пошлем через купцов.
— Хлеба-то им мы и сами соберем. А вот оружие бы им!..
— Что ты! Откуда?
— Оттуда! — грубо ответил слуга, кивнув куда-то в глубину дворца.
Шах опустил глаза и отмолчался.
Слуга спросил:
— Не убрать ли и нам кое-что?
— Но так, чтоб в глаза не бросалось.
— Виду не подадим.
— Днем напомни: надо распорядиться, чтоб стража наша приоделась, почистилась. А у кого хорошее оружие, убрали б. Пускай старье начистят, какое от прежних шахов долежало до нас. Чтоб не думали, что у нас есть сила. Надо наготове быть.
— Вот и вышло бы хорошо, — исправное оружие собрать да отослать в горы: коль его надо прятать, тут оно будет лежать без дела. А там, на первых порах…
— У меня одна голова, а у Хромца глаз много.
Слуга смолчал.
Утро близилось, но в тесноте шахских покоев еще не рассеялись теплые сумерки, пропахшие сонными людьми и хлопчатыми одеялами.
За дверью прозвучал женский смех: в спальнях разговорились спросонок разбуженные призывом к молитве, но поленившиеся сразу подняться милые шаху девушки.
Ибрагим-шах прошел мимо.
Пригнувшись, он вступил в тесный переход, откуда — плита над плитой высокими ступенями лестница уводила наверх, в круглую башню.
В нише под нижними ступенями горел светильник, освещая лишь нутро ниши, оставляя переход в темноте.
Затворив за собой тяжелую, окованную дверцу, шах постоял один у начала лестницы. Свет падал лишь на широкую с длинными узловатыми пальцами руку шаха, поднявшего передний подол розовой рубахи, чтоб не мешала восходить по высоким ступеням.
Другой рукой он огладил ладонью стену около ниши — так же ли ровна и столь же ли шершава она здесь, как и везде вокруг.
Взяв светильник, он осмотрел стену в этом месте и медленно пошел наверх.
Когда лет пять назад золотоордынский хан Тохтамыш разорял города Ширвана, в Шемахе его застала весть, что против его сил надвигается сила Тимура.
Войско Тохтамыша, утомленное битвами и разгулом в Азербайджане и Грузии, порастерявшее немало лихих рубак, было еще рассеяно по всей стране. Пока Тохтамыш скликал своих удальцов, Тимур был уже недалек. Многих не дозвались, и оружие, много оружия, Тохтамыш уложил в обоз, а сам повел войско прочь от своего былого покровителя.
Обоз не догнал своего хозяина: на Тереке-реке Тимур настиг Тохтамыша, и рука Повелителя Вселенной, вознесшая заяицкого хана Тохтамыша на золотоордынский престол, опустевший после Куликовской битвы, на Тереке свергла Тохтамыша с престола Золотой Орды.
Как некогда бежал Мамай глухими степями в чужие пределы от Тохтамышевой погони, так сам Тохтамыш кинулся через ту же степь искать пристанища в чужом краю.
Обоз остался, еще не весь захваченный Тимуром. Длинные возы с оружием попали в руки Ширван-шаха Ибрагима. Оружие оказалось всякое — и ордынское, кованное тяжело и грубо, и нахватанное в прежних походах удачливого Тохтамыша, — ширванское, армянское, московское, даже самаркандских оружейников из Синего Дворца, некогда подаренное Тимуром своему ставленнику в Золотую Орду.
Как ни много было его, оно улеглось в тайнике шемаханской башни, утаенное от Тимура. Ибрагим столь бескорыстно уступил Тимуру остальной обоз, что недоверчивый Тимур поддался на Ибрагимову щедрость и не спросил, все ли возы отдает ему Ибрагим.
О, если б проверил, — ни клятвами, ни улыбками не сберег бы своей головы Ширван-шах Ибрагим.
Он медленно поднимался со своим светильником. Башня была высока, ступени круты, мысли тяжелы.
Внутри башни, освещенная четырьмя узенькими бойницами, круглая сторожка издавна полюбилась шаху. Башня высилась над дворцом, дворец высился над всем городом, город высился над широкой долиной. Далеко вокруг раскрывался простор. Из северной бойницы виднелись соседние горы, еще заваленные снегами. Из другой — предутренняя дымка долин, сады, плавно сползающие из города в долину. Из третьей — край соседней башни, ее рубчатая кладка плохо отесанных несокрушимых глыб; темнели края дальних лесов в предгорьях. Из западной бойницы открывалась та дорога, по которой может прийти Тимур.
Между бойницами темнели ниши. В них повседневный обиход Ибрагим-шаха: серебряная плоская чашка, а на полу под ней — длинногорлый, как журавль, серебряный кувшин, покрытый, как черным кружевом, кубачинской чернью. В соседней нише — расписанная травами персидская шахматная доска, закрывавшаяся, как ковчежец. На ней — желтый стеганый колпак, на случай ветреной погоды, если шах поднимался на верх башни, к ее зубцам.
В нише, обращенной к Мекке, золотился вбитый в камень маленький полумесяц, обрамленный, как узором, куфической надписью — славословие аллаху. Здесь лежал большой Коран в зеленом сафьяне, а на полу, на ковре, деревянная подставка под Коран, разукрашенная в Багдаде перламутром и костью, и рядом с подставкой, полуприкрытая подушкой, маленькая книга в истертом красном переплете — стихи Низами.